К литературной небрежности Бунин был беспощаден: «...один известный поэт,— он еще жив, и мне не хочется называть его,— рассказывал в своих стихах, что он шел, «Колосья пшена разбирая», тогда как такого растения в природе никак не существует: существует, как известно, просо, зерно которого и есть пшено, а колосья (точнее, метелки) растут так низко, что разбирать их руками на ходу невозможно...»
Строгость Бунина к языку не имела ничего общего с низкопоклонством перед школьными грамматическими узаконениями или фигурами формальной логики. Он одобрял и неожиданную фразу, и то истинное новаторство, которое способствует пониманию предмета. Удивляясь гению Льва Толстого, Бунин писал: «...он первый употребляет совсем новые для литературы того времени слова: «Вдруг нас поразил необыкновенный, с ч ас т л и в ы й, б е л ы й весенний запах...»
Особенно по душе были Бунину слова, имеющие отношение к прошлому родины, к родной старине. «Святополки и Игори, печенеги и половцы — меня даже одни эти слова очаровывали»,— признавался он в «Жизни Арсеньева».
С каждым годом Бунин обращался с фразой уверенней и свободней. Он не пренебрегал ни цитатами, ни устойчивыми стилистическими оборотами, ни тончайшей имитацией стиля. В «Жизни Арсеньева» можно найти и мудрые фразы древних летописей, и молитвы, и распевность, и разбойничий зашифрованный говорок. Все это употреблено без рисовки, только там, где необходимо. Бунин позволял себе образовывать и неожиданные словесные конструкции: «В десять часов гости поднялись, налюбезничали и ушли».
Своему непосредственному чувству Бунин умел подчинять и привычный канон грамматической конструкции. В обычной речи было бы, пожалуй, натяжкой сказать, что «мужики широко и солнечно блещут косами». А Бунин спокойно пишет:
« ...густой и высокой стеной стоит на серой от зноя синеве безоблачного неба море пересохшей желто-песчаной ржи с покорно-склоненными, полными колосьями, а на него, друг за другом, наступают, враскорячку идут и медленно ровно уходят вперед мужики распояской, широко и солнечно блещут шуршащими косами, кладут влево от себя ряд за рядом...»
Легко отличить речь яркую, образную от трафаретной, искреннее слово — от фальшивого, довольно легко различить общее значение слова и его личное, частное значение, принятое каким-то общественным слоем, классом, нетрудно ощутить недолговечный, модный оттенок слова. Все это не выходит за пределы пассивного усвоения языка. Поэтому хороший редактор редко бывает хорошим писателем.
Гораздо труднее научиться обращаться с языком активно: вместе с движением своей мысли двигать язык вперед, расширять границы его применения, умножать его силу, вскрывать затаенные возможности или обновлять забытые значения слова. Постигать дух языка — дело тяжелое. Оно требует непрерывной работы сердца и мысли, постоянной муки писания.
«Это истинное мучение! Я прихожу в отчаяние, что не могу этого запомнить. Я испытываю мутность мысли, тяжесть и слабость в теле. Пишу, а от усталости текут слезы. Какая мука наше писательское ремесло...» — так передает жалобу Бунина один из его друзей.
Примечательно, что неуклонное совершенствование реалистического стиля Бунина совершалось в те годы, когда внешние обстоятельства этому не благоприятствовали. Чехова и Толстого уже не было в живых. Горький был вынужден жить за границей. Окружавшие Бунина воинствующие пророки и штукари бежали в символизм. В течение всех лет предреволюционной реакции ясный и чистый русский язык брался под подозрение.
«...бросьте внешнее велелепие искусства вашего, ведь мука творчества — иго неудобоносимое, оставьте бесплодную задачу утончения формы до прозрачности, до совпадения с содержанием, ибо это какой-то соблазн, от чуждого вам, а не от Бога... Не надо слов, они придут сами, пускай бессвязные, непонятные, темные»,— увещевал мистик Н. Русов в 1910 году. А в 1928 году, когда Бунин работал над «Жизнью Арсеньева», парижский критик, тоже русский эмигрант, корил его рассказы, «как бы изнывающие под тяжестью собственного совершенства...»
А Бунин мужественно шел по своему пути. Родной язык всегда оставался для него святыней.
Алеша Арсеньев родился в 1871 году, Бунин— в 1870-м.
Дату рождения своего героя-двойника автор сдвинул на год, возможно, потому, что иначе в последней книге романа (в то время, когда Лика оставила Алешу) Алеше должен был исполниться двадцать один год и наступал срок воинской повинности. Пришлось бы писать о казенщине, бюрократии, о государственных обязанностях — обо всем том непоэтическом, чего Бунин не понимал и терпеть не мог.
Читать дальше
![Сергей Антонов От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] обложка книги](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-cover.webp)

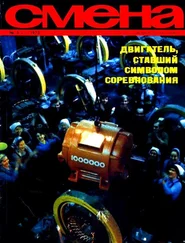
![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)
![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)





![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)
