В сутрах и законах Ману, в Карме, он увидел подобие своих смутных представлений о длинной цепи существований, о передаче памяти по наследству. Впервые попав в Севастополь, где его отец участвовал в Крымской войне, Бунин уверяет, что не просто увидел этот южный город, но — никогда не бывши в нем — узнал его. «Именно — вспомнил, узнал!»
Он, по его убеждению, ясно помнит средневековые замки, где пировали ero предки-рыцари; уверен, что в нем живет память его самых далеких пращуров.
Почему же большинство людей не ощущает заметных следов «памяти предков» и не испытывает неизбежных, связанных с такой памятью неудобств? На это Бунин отвечает: весь род человеческий делится на две категории. Одна, огромная, часть — «Люди своего, определенного момента. житейского строительства, делания, люди как бы почти без прошлого, без предков, верные звенья той Цепи, о которой говорит мудрость Индии...». Другие же, которых бесконечно меньше,— «одаренные великим богатством восприятий, полученных ими от своих бесчисленных предшественников, чувствующие бесконечно далекие звенья Цепи, существа, дивно (и не в последний ли раз?) воскресившие в своем лице силу и свежесть своего райского праотца, его телесности».
Первые — люди обыкновенные, вторые — художники, обладающие даром образной (чувственной) Памяти. Эта память с большой буквы, коллективная память предков, придает впечатлениям особую свежесть. Предмет прорабатывается в сознании сразу и современными и первобытными ассоциациями, мысль становится многосторонней, стереоскопичной.
Бунину-поэту представляется:
Дикою пахнет травой,
Запахом древних времен.
Бунин-прозаик дает нам почувствовать, как «тучи, угрюмые и грузные, как в ночи Потопа, все ниже спускаются над океаном».
Излагая соображения Бунина о «памяти предков», я вовсе не склонен иронизировать [5]. Наши познания о работе головного мозга далеки от полной ясности, и мы не можем ни подтвердить, ни категорически отвергнуть утверждений Бунина о том, что «богатство способностей, гений, талант — что это, как не богатство этих отпечатков (и наследственных и приобретенных)...».
Писатель иного склада, чем Бунин, легко подверстал бы под подобные рассуждения идеалистическую базу. Но Бунина не прельстили ни популярные в годы писания «Жизни Арсеньева» фрейдистские конструкции о родовом бессознательном, ни ницшеанско-фашистское деление человечества нa стадо и сверхчеловека, ни теории Бергсона о реликтовой памяти художника и артиста, ни Юнговы архетипы.
Реалистические страницы «Жизни Арсеньева», наполненные щедрыми красками, звуками и ароматами жизни, каждой строчкой своей вопиют против всяческого иррационализма.
Проявившаяся в мозгу счастливого — или несчастного — избранника память предков, несущая необычную чувственную новизну ощущения, оплачивается дорогой ценой.
Если простой смертный — только одно из звеньев цепи жизни, начало и конец которой теряются во мраке прошлого и будущего, то гений, талант — конец цепи, ее последнее звено. Для такого человека жизнь уже не представляет ценности, для него наступает, по терминологии буддизма, «освобождение». (Книгу об уходе и смерти Льва Толстого Бунин назвал: «Освобождение Толстого».)
«Ты зачал и повел безмерную Цепь воплощений,— приводит Бунин в рассказе «Ночь» древнее стенание,— из коих каждому надлежало быть все бесплотнее, все ближе к блаженному Началу. Ныне все громче звучит мне твой зов: «Выйди из Цепи! Выйди без следа, без наследства, без наследника!»
Рассуждая с этой точки зрения о творческой памяти, Бунин приходит к малоутешительному выводу: «Что же это такое? Нечто такое, с чем рождаются только уже совсем «вырождающиеся» люди?..»
Оттого и грустны страницы, любовно-подробно воскрешающие юность степного барчука Алеши Арсеньева, что каждая из них отмечена печатью вырождения. Даже в главах, посвященных первой любви и безоблачному юношескому счастью, незримо присутствует ощущение мимолетности, бренности, незавершенности.
Эта книга — книга о беднеющем отпрыске «знатного, но захудалого» рода, о неподвижном существовании в степном захолустье, о неподвижной скуке уездных городов — один из самых ярких документов истории развала помещичьих усадеб и деревенских укладов, павших жертвой схватки молодого российского капитализма с капитализмом зарубежным. В те годы, когда купец Балавин говорил Алеше, что цены на хлеб слабы, заграничный хлеб вытеснял с мирового рынка русскую пшеницу, нищета «мелкопоместных» доходила до того, что родители Алеши сняли ризы с образов и повезли закладывать.
Читать дальше
![Сергей Антонов От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] обложка книги](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-cover.webp)

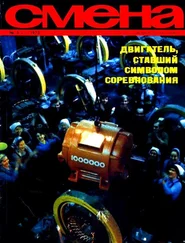
![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)
![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)





![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)
