Читатель помнит, конечно, енотовую шубу Алешиного отца, бывшую когда-то, в прежние времена, признаком роскошества, а может быть, даже в какой-то степени дворянского благородства. Какую жалкую роль играет теперь этот единственый опознавательный знак барства! Вот разорившийся, почти нищий отец Алеши появляется в этой самой шубе, как бы замаскированный под богача, беспечно задает пир на весь мир. Вот эта же шуба временно накинута на плечи арестованного Алешиного брата, ожидающего отправки на суд за революционную деятельность, вот ее ссудили Алеше, покидающему родное гнездо в поисках работы. На железнодорожной станции он снимает шубу и возвращает с работником назад, в Батурино.
Как много говорит эта используемая не по прямому назначению шуба о беднеющем, но не умеющем и не способном отвыкнуть от роскоши барстве.
Бунин не собирался воспроизводить исторический фон, сложные общественные отношения своего времени. «Злоба дня» не привлекала его. Но под пером талантливого писателя личный факт часто помимо его намерений выступает как факт социальный.
Бунин пишет:
«Венец каждой человеческой жизни есть память о ней,— высшее, что обещают человеку над его гробом, это память вечную. И нет той души, которая не томилась бы втайне мечтою об этом венце. А моя душа? Как истомлена она этой мечтой — зачем, почему? — мечтой оставить в мире до скончания веков себя, свои чувства, видения, желания, одолеть то, называется моей смертью, то, что непреложно настанет для меня в свой срок и во что я все-таки не верю, не хочу и не могу верить! Неустанно кричу я без слов, всем существом своим: «Стой, солнце!!»
И правда, если принять логику Бунина, противоестественно: в течение сотен, а может, и тысяч поколений благодаря бесконечным, непостижимым случайностям совокуплений создалось редчайшее, неповторимое, «отмеченное богом» существо, носящее имя Иван, а фамилию Бунин, существо, сосредоточившее в своем мозгу драгоценное богатство чувственного опыта пращуров, проникающее ощущением в самую сокровенную глубь вещей.
И вот совсем скоро, через десять, двадцать лет (такие сроки назначил сам Бунин), это множеством веков создаваемое чудо должно исчезнуть. Исчезнуть навсегда. Такая мысль не укладывалась в голове.
Правда, «бывание» Бунина на земле запечатлено в его рассказах, стихах, повестях. Но это небольшое утешение. К тому же прежние рассказы — с завязками, развязками, с выдуманными героями — предназначались для иного. Создавая их, Бунин еще недостаточно думал о главной, грандиозной задаче своего писания — о единоборстве с собственной смертью.
«А зачем выдумывать? Зачем героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что прославлены! И вечная мука — вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове!»
Наваждение смерти никогда не покидало Бунина. По его словам, он весь свой век прожил под ее знаком. В самые цветущие годы, в годы признания и славы он сочинял стихи, в которых была такая строчка:
Жизнь зовет, а смерть в глаза глядит...
Насколько же сильней стали мучить его эти думы, когда он оказался на чужбине, на красных скалах какого-то Грасса, где росли чужие пальмы и агавы и дуло что-то чужое, что называлось не ветром, а мистралем, и когда рядом не было никого, кроме преданной, но бездетной Веры Николаевны.
Каждый человек смертен, но каждый гонит от себя мысли о смерти. Но если тобою владеет навязчивая мысль, что ты не просто одно из случайных порождений природы, а бесценный ларец, в котором хранятся чувства, переживания и опыт твоего отца, деда, прадеда и всех прочих предков, то сознавать, что все это веками накопленное богатство навсегда исчезнет, станет ничем,— во сто крат тяжелей.
И вот 22 июня 1927 года Бунин начал сочинение, задачей которого было — одолеть смерть. Это был роман-летопись «Жизнь Арсеньева». Бунин начал роман так, будто принялся за писательство впервые, будто до этого не писал ничего вовсе, выбирая самое заветное и из своей памяти и из прежних рассказов и стихов, стараясь «запечатлеть это обманное и все же несказанно сладкое «бывание» хотя бы в слове, если уже не во плоти!».
Потому-то первая глава первой книга и начиналась древними словами: «Вещи и дела, аще не написаннии бывают, тмою покрываются и гробу беспамятства предаются, написаннии же яко одушевленнии...»
Читать дальше
![Сергей Антонов От первого лица... (Рассказы о писателях, книгах и словах) [журнальный вариант] обложка книги](/books/388321/sergej-antonov-ot-pervogo-lica-rasskazy-o-pisa-cover.webp)

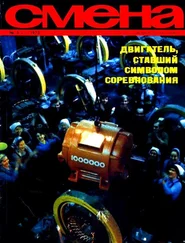
![Сергей Михеенков - Солдатский маршал [Журнальный вариант]](/books/72123/sergej-miheenkov-soldatskij-marshal-zhurnalnyj-var-thumb.webp)
![Сергей Григорьев - Гибель Британии [журнальный вариант]](/books/123722/sergej-grigorev-gibel-britanii-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)





![Сергей Антонов - Два автомата [Рассказы]](/books/423815/sergej-antonov-dva-avtomata-rasskazy-thumb.webp)
