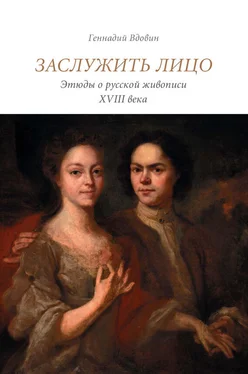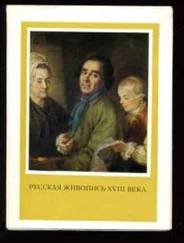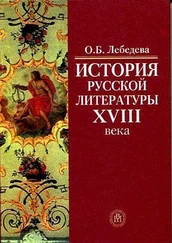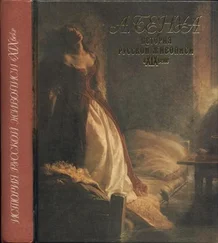— Он утонет, спасите его, спасите! — закричала Анна Васильевна Инсарову, который стоял на берегу, расставив ноги и глубоко дыша.
— Выплывет, — проговорил он с презрительной и безжалостной небрежностью. — Пойдемте, — прибавил он, взявши Анну Васильевну за руку, — пойдемте, Увар Иванович, Елена Николаевна.
— А… а… о… о… — раздался в это мгновение вопль несчастного немца, успевшего ухватиться за прибрежный тростник.
Все двинулись вслед за Инсаровым, и всем пришлось пройти мимо самой «компании». Но, лишившись своего главы, гуляки присмирели и ни словечка не вымолвили; один только, самый храбрый из них, пробормотал, потряхивая головой: «Ну, это, однако… это бог знает что… после этого»; а другой даже шляпу снял. Инсаров казался им очень грозным, и недаром: что-то недоброе, что-то опасное выступило у него на лице. Немцы бросились вытаскивать своего товарища, и тот, как только очутился на твердой земле, начал слезливо браниться и кричать вслед этим «русским мошенникам», что он жаловаться будет, что он к самому его превосходительству графу фон Кизериц пойдет… [наконец, является долгожданный русский немец генерал. — Вд. ]
Но «русские мошенники» не обращали внимания на его возгласы и как можно скорее спешили к замку.<���…>
В воздухе стали носиться какие-то неясные звуки; казалось, будто вдали говорили тысячи голосов: Москва неслась им навстречу.
Тут бы и оборвать наконец чрезмерно затянувшуюся цитату, кабы не финальное виде́ние Елены в Италии, видение, прорицающее не столько судьбу Инсарова, сколько будущее развитие «готики» в московской, и не только в московской, архитектуре.
Странный ей привиделся сон. Ей показалось, что она плывет в лодке по Царицынскому пруду с какими-то незнакомыми людьми. Они молчат и сидят неподвижно, никто не гребет; лодка подвигается сама собою. Елене не страшно, но скучно: ей бы хотелось узнать, что это за люди и зачем она с ними? Она глядит, а пруд ширится, берега пропадают — уж это не пруд, а беспокойное море: огромные, лазоревые, молчаливые волны величественно качают лодку; что-то гремящее, грозное поднимается со дна; неизвестные спутники вдруг вскакивают, кричат, махают руками… Елена узнает их лица: ее отец между ними. Но какой-то белый вихорь налетает на волны… все закружилось, смешалось…
Елена осматривается: по-прежнему все бело вокруг; но это снег, снег, бесконечный снег. И она уж не в лодке, она едет, как из Москвы, в повозке; она не одна: рядом с ней сидит маленькое существо, закутанное в старенький салоп. Елена вглядывается: это Катя, ее бедная подружка. Страшно становится Елене. «Разве она не умерла?» — думает она.
— Катя, куда это мы с тобой едем?
Катя не отвечает и завертывается в свой салопчик; она зябнет. Елене тоже холодно; она смотрит вдоль по дороге: город виднеется вдали сквозь снежную пыль. Высокие белые башни с серебряными главами… Катя, Катя, это Москва? Нет, думает Елена, это Соловецкий монастырь: там много, много маленьких тесных келий, как в улье; там душно, тесно, — там Дмитрий заперт. Я должна его освободить… Вдруг седая, зияющая пропасть разверзается перед нею. Повозка падает, Катя смеется. «Елена! Елена!» — слышится голос из бездны. [Соловки как настоящая, суровая, реальная, «северная», сиречь подлинная, Россия, представленная прежде лишь срединной Москвой и «южным», евразийским Царицыным, возникает здесь как земля подвига. — Вд. ] «Елена!» — раздалось явственно в ее ушах. Она быстро подняла голову, обернулась и обомлела: Инсаров, белый как снег, снег ее сна, приподнялся до половины с дивана и глядел на нее большими, светлыми, страшными глазами. Волосы его рассыпались по лбу, губы странно раскрылись.
Тут и отошел русский болгарин, панславист Инсаров, разметивший юг Москвы, вообще, и Царицыно, в частности, как топос конфликта меж панславизмом, пангерманизмом и пантюркизмом.
К нашему рассуждению о «германороманском» и «славянотюркском» остается лишь добавить, что «инсар» на фарси — «эта голова», совсем уж точно: «это голова!» (Благодарю Ш. М. Шукурова за это ценное наблюдение.) Если даже предположить, что «югорусс» Тургенев произвел фамилию героя от центра Инсаровского уезда Пензенской губернии, то и здесь очевиден тюрко-фарси-славянский волапюк. В доказательство же заложенной, согласно нашей провокационной идее, в царицынском ансамбле антиномии «романо-германского» — «панславянского» со всеми предикатами «индивидуального» — «личного» присовокупим финал «Анны Карениной», пытаясь уловить в черством воздухе недооцененного по сию пору текста железнодорожный перестук великого и скорого поезда «Роман Толстого „Анна Каренина“», идущего так, как текут наши реки, мчащегося с Северо-Запада, от Николаевского вокзала, от петербургских трясин к степям Юга, к вокзалу Курскому, к Оке, к границе суглинка и чернозема, а там, глядишь, и вместе с Вронским — на Балканы… Ну, правда, не стал бы Толстой, изрядно поиздевавшись над патриотами и патриотками, попусту в финале констатировать: «На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших „Славься“. Опять добровольцы кланялись и высовывались…» А дальше — опять кружки пожертвований, сестры милосердия, «Живие!» и прочее геройство, тут же развенчиваемое «зеркалом русской революции» не без оснований.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу