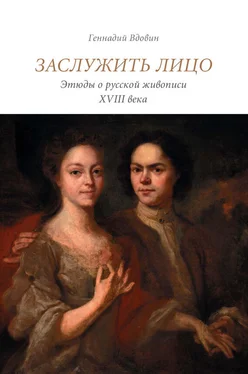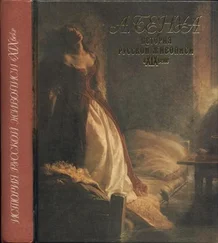О символике и эмблематике готики Баженова см.: Медведкова О. А. Предромантические тенденции в русском искусстве рубежа XVIII–XIX вв. // Проблемы историографии и истории культуры народов СССР. М., 1988; Медведкова О. А. Царицынская псевдоготика В. И. Баженова: опыт интерпретации // Вопросы искусствознания’4/93.
Понятия современности и историзма рождаются одновременно. Понять современность — значит понять ее своеобразие, отличие от других эпох, т. е. просветить ее перспективой исторического движения. Неслучайно само обращение к прошлому (или к будущему) впервые ощущается как уход от современности именно в романтизме. Следовательно, родилось само чувство современности, раз ощущается уход от нее (Гачев Г. Д. Жизнь художественного сознания. М., 1972. С. 162).
Цит. по: Михайлов А. И. Указ. соч. С. 156.
Волошин М. Дух готики (цит. по.: Русская литература и зарубежное искусство. Л., 1986. С. 338).
Все тот же В. И. Баженов, наверное, первым в отечественной культуре заявил тему «руин», запроектировав в 1765 г. увеселительный дом в саду Екатериенгофа, где намерен был его цоколь «представить развалинами древнего Дианина храма» (цит. по: Герчук Ю. Я. Руины в баженовском проекте Екатерингофского дворца // Тема руин в культуре и искусстве. Царицынский вестник. Вып. 6. М., 2003. С. 147). Изучая же проблему первенства изображения руин в плоскостных искусствах, согласимся пока с М. Д. Краснобаевой, утверждающей, что прежде иных рисовали их ученики Сухопутного шляхетского кадетского корпуса, обремененные изображением «рюин замков» в качестве учебной программы (Краснобаева М. Д. Руины в рисунках воспитанников Сухопутного шляхетского кадетского корпуса середины XVIII в. из собрания ГМУ «Архангельское» // Там же. С. 79–88).
А. Кушнер. Так же, через псевдоготику, характеризует Б. Пастернак состояние героя своей «Повести»: «Он видел, как больно и трудно Анне быть городским утром, то есть во что ей обходится сверхчеловеческое достоинство природы. Она молча красовалась в его присутствии и не звала на помощь. И, помирая с тоски по настоящей Арильд, то есть по всему этому великолепью в его кратчайшем и драгоценнейшем извлеченьи, он смотрел, как, обсаженная тополями, точно ледяными полотенцами, она засасывается облаками и медленно закидывает назад свои кирпичные готические башни. Этот кирпич багрового нерусского обжига казался привозным, и почему-то из Шотландии» (Пастернак Б. Л. Повесть // Пастернак Б. Л. Воздушные пути. М., 1982. С. 184.)
Отметим, что для Вяземского «готическое» суть «чужое», «немецкое» немотствующее, чужеродное. Так, характеризуя мудрость Петра Великого, он отмечает: «Он мог и должен был пользоваться чужестранцами, но не угощал их Россией, как ныне делают. Можно решительно сказать, что России не нужны и победы, купленные ценой стыда видеть какого-нибудь Дибича начальствующим русским войском на почве, прославленной русскими именами Румянцева, Суворова и других. При этой мысли вся русская кровь стынет на сердце, зная, что кипеть ей не к чему. Что сказали бы Державины, Петровы, если воинственной лире их пришлось бы звучать готическими именами Дибича, Толя?». И мощно итожит: «На этих людей ни один русский стих не встанет».
Начало ключевому происшествию положено желанием «странного» у одной из героинь Тургенева. А чем, собственно, была «готика» или «псевдоготика», как не охотой «иного»?
…а месяца через два в ней опять загоралась жажда «необыкновенного». То же случилось и теперь. Кто-то упомянул при ней о красотах Царицына, и Анна Васильевна внезапно объявила, что она послезавтра намерена ехать в Царицыно. Поднялась тревога в доме: нарочный поскакал в Москву за Николаем Артемьевичем; с ним же поскакал и дворецкий закупать вина, паштетов и всяких съестных припасов; Шубину вышел приказ нанять ямскую коляску (одной кареты было мало) и приготовить подставных лошадей; казачок два раза сбегал к Берсеневу и Инсарову и снес им две пригласительные записки, написанные сперва по-русски, потом по-французски Зоей; сама Анна Васильевна хлопотала о дорожном туалете барышень. Между тем partie de plaisir [увеселительная прогулка. — Вд. ] чуть не расстроилась: Николай Артемьевич прибыл из Москвы в кислом и недоброжелательном, фрондерском расположении духа (он все еще дулся на Августину Христиановну) и, узнав, в чем дело, решительно объявил, что он не поедет; что скакать из Кунцева в Москву, а из Москвы в Царицыно, а из Царицына опять в Москву, а из Москвы опять в Кунцево — нелепость, — и наконец, прибавил он, пусть мне сперва докажут, что на одном пункте земного шара может быть веселее, чем на другом пункте, тогда я поеду. Это ему никто, разумеется, доказать не мог, и Анна Васильевна, за неимением солидного кавалера, уже готова была отказаться от partie de plaisir, да вспомнила об Уваре Ивановиче и с горя послала за ним в его комнатку, говоря: «Утопающий и за соломинку хватается». Его разбудили; он сошел вниз, выслушал молча предложение Анны Васильевны, поиграл пальцами и, к общему изумлению, согласился. Анна Васильевна поцеловала его в щеку и назвала миленьким; Николай Артемьевич улыбнулся презрительно и сказал: «Quelle bourde!» [ «Какая нелепость!» — Вд. ] (он любил при случае употреблять «шикарные» французские слова), — а на следующее утро, в семь часов, карета и коляска, нагруженные доверху, выкатились со двора стаховской дачи. В карете сидели дамы, горничная и Берсенев; Инсаров поместился на козлах; а в коляске находились Увар Иванович и Шубин…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу