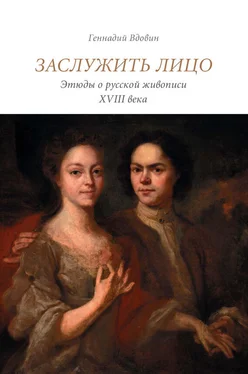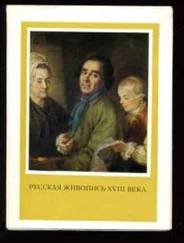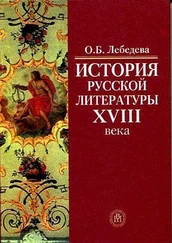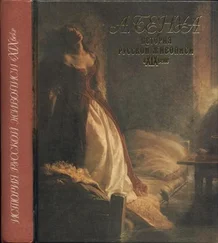Заметим, кстати, что все еще легкий на подъем герой эпохи, не страдая манией романтического интеллектуализма, не жаловал письменных столов, предпочитая секретеры, конторки, бюро. В реальности он все еще предпочитает отнюдь не пышные парадные спальни, но простые полати, застеленные соответственно его вкусу. Он постепенно опредмечивает свою персону, и в этом смысле любимый столовый прибор Петра и любой из его портретов — памятники одного события и одного процесса. По правде, все еще не окончательно сформированы такие жанры жизни, как персональный столовый прибор или, скажем, набор белья. Очевидна их зависимость от процесса «гоминизации», от норм, диктуемых новыми — персональным и индивидуальным — состояниями «Я». Примечательно, что такой авторитетный историк общежития, как Джованни Ребора, толкуя изобретение вилки (Ребора Дж. Происхождение вилки. История правильной еды. М., 2007), прибегает лишь к технологическим интерпретациям (лазанью, де, невозможно есть ни руками, ни ложкой и потребно «деревянное шило» [Там же. С. 29–30]), и не обращает внимание ни на эволюцию прибора из «деревянного шила» в вилку, состоявшуюся именно в эпоху Возрождения (нельзя, впрочем, не провести параллели со славянским Возрождением с его спецификой и типичностью, очень точно зафиксированным Н. В. Гоголем в первом томе «Вечеров на хуторе близ Диканьки»: «Теща отсыпала немного галушек из большого казана в миску, чтобы не так были горячи. После работ все проголодались и не хотели ждать, пока простынут. Вздевши на длинные деревянные спички галушки, начали есть. Вдруг откуда ни возьмись человек, — какого он роду, бог его знает, — просит и его допустить к трапезе. Как не накормить голодного человека! Дали и ему спичку. Только гость упрятывает галушки, как корова сено»), ни на «персонализацию» вилки, тогда как в истории тарелки вынужден хотя бы прибегнуть к упоминанию ментальной перемены Ренессанса: «Когда Гарпия прокляла Энея, она напророчила герою и его соратникам, что их „заставит голод жестокий столы пожирать, вгрызаясь зубами“ [ Вергилий. Энеида. III, 256–257]). Пророчество сбылось, но оказалось не столь уж страшным: Энею и его соратникам пришлось есть хлебные круги, которые служанки раздавали перед пиром и которые использовались в качестве тарелок. Зато мы можем сказать, что соратники Венеры ели самую древнюю в мире пиццу: ведь это были хлебные круги, пропитанные соками и остатками еды, которую на них клали, чтобы резать, — эти хлебные круги назывались mensae [т. е. столы — лат. — Вд. ]. Предполагалось, что каждую такую менсу делят между собой два человека, поэтому про них можно было сказать, что они „едят за одним столом (на одной менсе)“. На этой менее, в основном, резали мясо. Уже в XII в., гораздо раньше, чем в других странах (Ж. Л. Фландрин, например, пишет, что во Франции большие куски хлеба сменились тарелками лишь в XVI в.), в Италии хлебную менсу (или просто кусок хлеба) стали заменять специальной дощечкой. Этот предмет, который довольно часто встречается в средневековых документах, представлял собой круг из дерева или из глины, которым тоже пользовались одновременно два человека. Именно поэтому вплоть до XV в. принято было говорить „stare a tagliere“, т. е. „делить с кем-то дощечку“, с тем же значением, что и „stare alia stessa mensa“ („есть за одним столом“). А в XV в. в Италии, опять-таки раньше, чем где бы то ни было, на смену дощечке на двоих пришла индивидуальная тарелка. В это же время стали пользоваться индивидуальными стаканами и, как уже упоминалось, вилкой. Гуманизм имел последствия и в такой области. Я, конечно, не буду утверждать, что этот переворот в культуре питания случился именно под влиянием трудов гуманистов, но эти новые обычаи, родившиеся в мире коммун (речь идет об итальянских городах-коммунах XIII–XV вв.), объясняются новым мировоззрением, появлением индивидуальной точки зрения, недаром в это время в живописи появляется перспектива, эту точку зрения воспроизводящая» (Там же. С. 173–174.).
Обрастая персональными вещами и выделяя собственную территорию, молодое русское Ego наделяет их новыми смыслами. К примеру, историки фарфора XVIII столетия, отмечая «приватность» такого порцелинового жанра, как ставший популярным во второй половине века «тет-а-тет», упорно не договаривают (до всех Фрейдов) его вполне сексуальную эмблематику. Прочтем хотя бы Новикова: «Престарелый Селадон хочет иметь у себя в услужении прекрасную молодую девушку: должность ее состоять будет в том, чтобы по утрам и вечерам подавала ему шоколад. Напротив того, обещает он ей ежегодное богатое содержание с тем, чтобы сия девушка весьма была исправна в своей должности, и с таким притом примечанием, чтобы она никогда и никому не давала из той чашки, из которой он будет сам пить; ибо сей дворянин в таком случае весьма завистлив и разборчив» (пит по: Новиков Н. И. Живописец. [Подряды] // Новиков Н. И. Смеющийся Демокрит. М., 1985. С. 148–149). Чтобы понять, как соединяются в таких случаях национальное и евразийское, присовокупим одно из многих и типичных свидетельств XVII–XIX вв.: «Дружка спрашивал на другой день молодого: „Что, лед пешал [т. е. лед пешней рубил. — Вд. ] или грязь топтал?“, — подавая стакан водки. Если молодая оказалась целомудренной, тогда стакан разбивался, если нет — ставился на стол» (Личный архив Я. Кузнецова по описанию Вологодской губ. // Кузнецов Я. О. Семейное и наследственное право в народных пословицах и поговорках. СПб., 1910. С. 47).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу