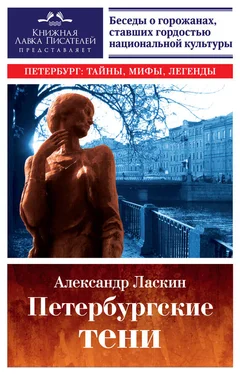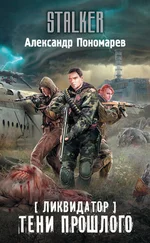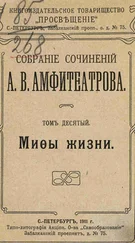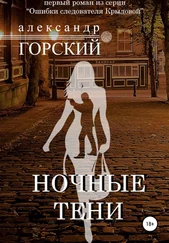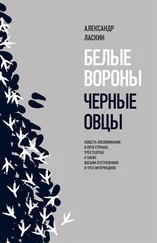Потом Анна Андреевна написала очерк о Модильяни и изобразила все так, будто она с самого начала знала, что он большой художник. Примерно в это же время в Русском музее открылась выставка репродукций и там были четыре вещи Модильяни.
АЛ:Ахматова ходила?
ЗТ:Ну конечно… Тогда все на эту выставку бегали, и по многу раз. Очередь стояла до Невского.
Не только Зоя Борисовна дорожила каждой из этих реплик, но и ее собеседники знали им цену.
С одной стороны, разговоры имеют отношение к жизни, а с другой, принадлежат искусству. В каких-то случаях можно попытаться определить жанр.
Анна Андреевна непременно определяла. Как бы предупреждала, что рассказанная ею история будет обладать качествами настоящей прозы.
Скажет: «Хотите, Зоя, новеллу?» И еще сделает большую паузу, словно собирается читать что-то свое.
Уж не скрыта ли в ее вопросе цитата? Воспоминание о давней статье Жирмунского, в которой обосновывалась новеллистичность ее стихов?
Вот хотя бы перчатка с левой руки. Так посмотришь – точнейшее свидетельство, а так – совершенная поэтическая формула.
Что тут важнее? Личная манера или стиль эпохи? Кажется, существует связь между ее лаконизмом и повсеместной склонностью к умолчаниям.
Еще во вполне вегетарианскую эпоху Анна Андреевна почувствовала эту тенденцию. Смогла превратить всеобщий недостаток в достоинство своего искусства.
И отмеченная критиками способность сказать одно, а иметь в виду другое, тоже с этим связана. Жизнь это качество не украшает, а в стихах оно превращается в чистый бриллиант.
Давно нет Анны Андреевны, а Зоя Борисовна следует этим принципам. Косвенно поминает поэтессу, когда говорит: «А тут есть продолжение».
Словом, чем спасается? Верой в то, что в реальности есть толика художественности. Порой бывают такие повороты, что никакому автору за ней не поспеть.
К вопросу о статусе искусства
Своим, как обычно, ровным голосом Борис Викторович объяснил нечто самое важное.
«…Литературное произведение, – писал он в своей «Теории литературы», – может остаться незафиксированным; создаваясь в момент его воспроизведения (импровизация), оно может исчезнуть. Таковы импровизационные пьесы, стихи (экспромты), ораторские речи и т. п. Играя в человеческой жизни ту же роль, что и чисто литературные произведения, исполняя их функцию и принимая на себя их значение, эти импровизации входят в состав литературы, несмотря на свой случайный, преходящий характер».
Значит, дело совсем не в статусе текста. Литература может существовать и в качестве устных рассказов, и в виде самой жизни, которая так и просится превратиться в новеллы.
Томашевский – человек замечательно точный. Не зря бывший электротехник. Буковки в его рукописях мелкие-мелкие, и каждая, подобно цифре, отдельно от другой.
Он-то знает цену слову. Если хочешь понять его до конца, старайся ничего не пропускать.
Ведь это он успокаивает современников. Мол, не печальтесь. Даже если литература не называет себя литературой, она существует все равно.
Не панацея же изобретение Гуттенберга. Можно просто играть в шарады, сочинять экспромты, а впечатление будет самым художественным.
Или, к примеру, пожилой человек рассказывает о жизни, и тоже выходят произведения. Даже телефонные звонки или необходимость выпить чая не помешают их цельности.
Правда, – вновь с благодарностью оглянемся на ту же цитату, – век этих текстов короток. Исчезают, и все. Только мы расстаемся с Зоей Борисовной, как сразу начинаются сомнения.
Может, диктофон или тетрадка что-то сохранят? Конечно, не притушенный свет лампы и тень на стене, но хотя бы порядок слов.
Такова вечная мука автора non-fiction. Садишься за письменный стол и мысленно обращаешься в неведомые дали:
– Дай сохранить порядок слов. Сделай так, чтобы бумага не исказила интонацию фразы. Не лишай отражение величия, иронии и мудрости оригинала. Не введи в искушение неправдой и избавь от лукавого.
Я долго приглядывался к ахматовской строчке: «Когда б вы знали из какого сора» и некоторое время так и называл для себя эту повесть.
Это действительно о том, из каких подробностей складывается жизнь. Как эти подробности скрепляют ткань бытия подобно крепкому шву.
Еще я размышлял над вариантом: «Все умерли». Тоже, наверное, не совсем бессмысленно. Уже нет никого на свете из ее прославленных собеседников.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу