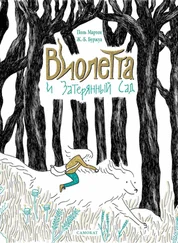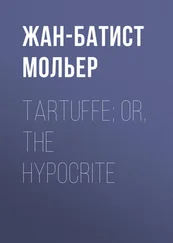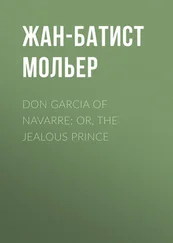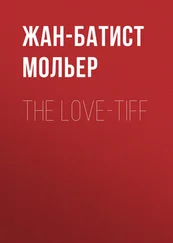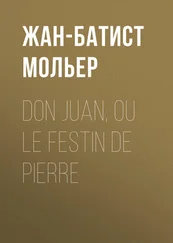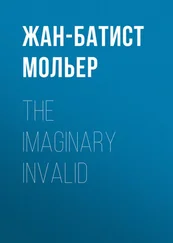Так Марбо называет 8-й полк шеволежеров, образованный 18 июня 1811 г. из 2-го полка улан Вислинского легиона. Он состоял из поляков, но был воинской частью французской службы, а потому его не следует путать с 8-м уланским полком армии Великого герцогства Варшавского, также принимавшим участие в Русском походе 1812 года. (Прим. ред.)
Имеется в виду Огюст-Жан-Жозеф-Жильбер Амей (1775–1816), барон Империи, полковник 24-го конно-егерского полка с 12 июня 1809 г., бригадный генерал с 21 ноября 1813 г. (Прим. ред.)
Русские источники не подтверждают утрату каких-либо знамен при Якубове. Известно, что за всю кампанию 1812 года было потеряно только одно русское знамя (2-го батальона Ревельского пехотного полка), захваченное 19 июля в бою под Экау прусскими драгунами. (Прим. ред.)
В книге г-на де Сегюра можно прочесть: «Смерть Кульнева была, — говорит он, — героической. Ядро раздробило ему обе ноги и сбросило его на его собственные пушки. Тогда, видя, что французы приближаются, он сорвал с себя свои ордена и, возмущаясь своим собственным безрассудством, приговорил себя к смерти на месте своего поражения, приказав своим солдатам оставить его». (Прим. авт.) По-видимому, Яков Петрович Кульнев в самом деле скончался достаточно быстро, однако версия его гибели, приведенная в мемуарах Марбо, несомненно, относится к разряду фантазий. Тот факт, что русский военачальник пал от французского ядра, раздробившего ему ноги, определенно подтверждается отечественными источниками, причем, когда это ядро на излете поразило Кульнева, он не сидел верхом на лошади, а стоял возле одного из орудий, прикрывавших переправу его разбитого отряда через речку Дриссу. Очевидно, смерть генерал-майора, вызванная большой потерей крови, наступила очень скоро. При поспешном и беспорядочном отступлении русских частей от Сивошина к Головчицам тело его, перевозимое на орудийном лафете, свалилось на землю и было на какое-то время потеряно. В тот же день, когда после боя при Головчицах войска Витгенштейна в свою очередь преследовали отброшенную ими французскую дивизию генерала Вердье, русские пехотинцы Пермского полка, не доходя мызы Соколище, расположенной примерно в 5 километрах от Сивошина, нашли и подобрали раздетый до исподнего белья труп Кульнева, лежавший ничком на небольшой лесной поляне, недалеко от обочины дороги. Обстоятельства его обнаружения и опознания описал в своих воспоминаниях непосредственный участник события А. И. Дружинин, который в 1812 г. служил поручиком в Пермском пехотном полку. По свидетельству этого офицера, обе ноги Якова Петровича были перебиты ядром: правая около туловища, а левая — несколько выше колена. (Прим. ред.)
Барон Альфред де Марбо, докладчик в Государственном Совете, умер в 1865 г. (Прим. франц. ред.)
Г-н де Сегюр пишет: «От Москвы больше не скрывают, какая участь ей предназначена… Ночью посыльные стучат во все двери. Они объявляют о начале пожара… Все насосы убирают. Отчаяние поднимается до предела… В этот день ужасная сцена завершает все драматические события… Открываются двери тюрем. Оттуда с шумом вываливается грязная, отвратительная толпа… С этого момента великая Москва не принадлежит больше ни русским, ни французам, а этой грязной толпе, ярость которой направляют несколько офицеров и солдат. У толпы есть руководители. Каждому указано его место. И толпа разбегается по всему городу, чтобы одновременно во всех местах начались грабежи и вспыхнули пожары». (Прим. авт.)
Если верить «Мемуарам» Чичагова, губительные разногласия, которые слишком часто царили среди командиров Наполеона, существовали также и среди военачальников Александра. Именно этому несогласию остатки Великой армии частично обязаны своим спасением при переправе через Березину. (Прим. франц. ред.)
Имеется в виду предмостное укрепление (тет-де-пон) на правом берегу Березины. (Прим. франц. ред.)
Граф де Рошшуар, бывший тогда адъютантом императора Александра, в своих «Мемуарах» приводит многочисленные подробности всего борисовского эпизода, в котором он принимал активное участие. Мемуары Чичагова полностью подтверждают все эти детали. (Прим. франц. ред.)
В любопытной и драматической иллюстрированной реляции Русской кампании, опубликованной в Штутгарте в 1843 г., Фабер дю Фор сообщает, что мосты были свободны в ночь с 27-го на 28 ноября и даже в ночь с 28-го на 29-е. (Прим. франц. ред.)
Читать дальше
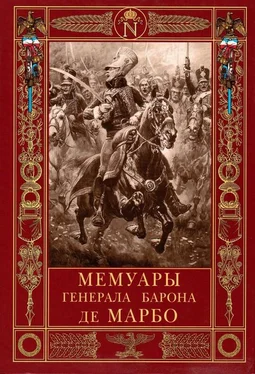
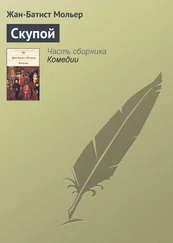


![Жан-Батист Панафье - Дарвин на отдыхе [Размышляем над теорией эволюции] [litres]](/books/389729/zhan-thumb.webp)