Соколов, собственно, тоже ничего значащего не сказал и признался, что приехал «просто познакомиться». Он с порога начал фамильярничать и попросил разрешения обращаться на «ты»:
— Ведь мы же почти родственники… — хитро улыбнулся он.
От удивления я даже согласился на «ты» (что было ошибкой).
«Какие родственники — что он несет?» — пытался я разгадать шифр. Вгляделся еще раз в лицо чекиста — нет, мы точно никогда не встречались, но глаза показались знакомыми.
Уже в камере, отходив с километр туда-сюда, вспомнил: «Да неужели? Инна Соколова — его дочь? Нет, не может быть: у нее было другое отчество — племянница?..» Я вспомнил милую пухленькую девушку, студентку юридического факультета. Это было краткое знакомство, не успевшее развиться в серьезные отношения, хотя и трудно было бы указать какую-то определенную причину, почему этого не произошло. Возможно, потому что это время было апогеем нашего романа с Любаней. Возможно, потому что между нами не возникло того сложного алхимического притяжения, из которого развиваются отношения мужчины и женщины — даже если им всего по двадцать с небольшим лет. Как бы там ни было, но, чем дальше, тем больше следствие походило на какую-то комическую мыльную оперу: отец одного следователя шил мне штаны, с родственницей другого я почти имел роман.
В тот день разговор с Соколовым был пустым и беспредметным — он приехал лишь для того, чтобы посмотреть на меня и оценить как противника. Я видел уже достаточно чекистов, чтобы знать, что они не гении сыска и не маньяки-садисты, вылезшие из подвала какого-нибудь пыточного приказа Ивана Грозного. Все они были, как на подбор, заурядные бюрократы — что, однако, не делало их безопасными. Ибо что может быть опаснее бюрократа, облеченного абсолютной властью?
Чувство опасности не оставляло меня на допросах Соколова никогда. Пусть мы вроде бы и беседовали за столом в убогом канцелярском кабинете, а не в каменном подвале с интерьером из пыточных устройств инквизиции. Все равно присутствовало ощущение, что если бы Соколову приказали, то он не задумываясь начал бы загонять мне под ногти гвозди — чем некогда занимался в том же кабинете его неведомый предшественник из НКВД. Причем без всякого энтузиазма и совершенно спокойно — «служба такая».
Однако первые изменения, которые принесло новое следствие, были к лучшему.
Соколов никогда не приезжал в тюрьму сам, но и не гонял меня в город в угарном воронке. Уже засветло, часов в девять — а не в предрассветной темноте, — мент забирал меня из камеры и вел на вахту, где передавал в руки двух довольно неказисто одетых гэбэшников. Это были «синие воротнички» КГБ, сотрудники Седьмого управления — наружки. Одевались они так, конечно, не от бедности, а по профессиональной привычке — наружна должна быть незаметной. Мы садились в черную «Волгу» — конвоиры с обеих сторон, на заднем сиденье — и ехали через весь город в Управление КГБ.
Машина въезжала через глухие стальные ворота во двор КГБ, там кто-то из конвоиров брал меня за локоть и через черный ход заводил в здание. Так же — локоть в стальной хватке чекиста — мы проходили по узким коридорам управления в кабинет Соколова, расположенный в самом торце. Конвоир усаживал меня на стул и обязательно оставался дежурить за дверью в коридоре.
Кабинет следователя КГБ мало чем отличался от множества других кабинетов, которые приходилось видеть советскому человеку. Все было не ново, местами обшарпано, плинтусы и стены многократно перекрашивались. Здесь буквой Г стояли два стола следователя, был шкаф, пара стульев, ну и «рабочее место» подследственного — привинченный к полу табурет и крошечный столик. Если бы не средних размеров портрет Дзержинского, то кабинет мог бы иметь любого другого хозяина, стоящего где-то посередине советской бюрократической лестницы Иакова. Например, директора школы или начальника отдела кадров завода, только там вместо «железного Феликса» висел бы Ленин.
Соколов уже ждал меня, заправляя лист бумаги в пишущую машинку — делал он это кропотливо с видом рыбака, насаживающего наживку на крючок. «Ну как, еще не насиделся?» — отпускал он фамильярное приветствие, после чего начинал говорить.
Говорить была его работа. Соколов допрашивал в стиле «доброго копа», играл роль своего-в-доску-мужика, рубахи-парня, примерно пятидесяти лет от роду. И говорил он о чем угодно — о погоде и футболе, даче-саде-огороде, еде и напитках, — но поток слов не прекращался ни на минуту. Он что-то рассказывал вообще в пространство, потом обращался ко мне, втягивал в разговор, задавал пустые вопросы: «Ведь так? Правильно говорю? Ты понимаешь, да?» — пока в нужный момент незаметно не сворачивал к теме.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
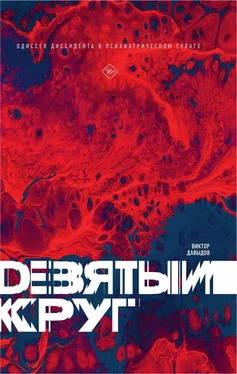




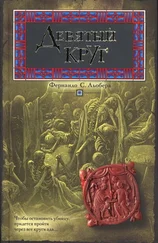



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


