Я общался с Любаней не только в ее птичьей инкарнации. Она часто мне снилась, и если до тюрьмы я редко помнил сны, то теперь они стали настолько яркими и реалистичными, что даже при желании их невозможно было забыть. В снах тоже присутствовала тюрьма, но я или только что освободился, или каким-то чудесным образом выскочил из нее на день, и почему-то в снах всегда было лето.
Увы, сны не всегда оставляли радостное чувство. В снах я всегда сразу бросался к Любане, но ее редко удавалось найти. Ее не было дома, я встречался с ней или у друзей, или просто случайно на улице. Мы обнимались с восторгом, тут же отправлялись домой или ехали за город, возможно, на дачу. Но по дороге постоянно попадались какие-то ненужные знакомые, Любане всегда было необходимо закончить сделать что-то срочное, и в итоге мы так никуда и не добирались — до подъема и рева советского гимна. Один раз после долгих поисков я увидел ее на узком мостике, пересекающем озеро. Она узнала меня и радостно замахала рукой, сигналя «Сейчас иду!» — но почему-то никуда не двигалась, так и оставаясь на месте.
Чуть позднее я стал еженедельно получать от Любани письма. Гермесом, доставлявшим послания, стал наименее вероятный персонаж — надзиратель Армен. Армен Саркисян был студентом-вечерником моих родителей. Он даже пару раз заходил к нам в дом. Мы были примерно одного возраста, так что легко нашли общий язык. Как-то мы встретились на улице, Армен затянул меня в кафе — где под занавес совершенно ни к чему поучаствовал в пьяной драке.
Я знал, что Армен был армянином из азербайджанского города Гянджи. За учебу на юридическом факультете в Закавказье надо было платить большие деньги, неподъемные для его семьи. Армен поступил учиться в Самаре, у отца были несколько студентов-кавказцев, и все они приезжали в Россию по одной причине — бедности. Чем Армен занимался в Самаре и где работал, до ареста я понятия не имел.
Теперь прояснилось. Оказалось, Армен нашел себе удобную работу надзирателя в СИЗО. Надзирателей всегда не хватало, им сразу давали комнату в ведомственном здании, стоявшем недалеко от тюрьмы. Впервые я увидел его в форме МВД при выводе на прогулку, у меня с трудом хватило самообладания, чтобы радостно не кивнуть. Армен, естественно, тоже ничем не дал знать, что мы знакомы.
В первый же день Армен, заводя во дворик, тайком выкинул что-то в фольге из кармана прямо на пол и нарочито грозно рявкнул: «Не мусорить! Ну-ка подбери что бросил!» Приняв правила игры, я мигом схватил подарок и даже пролепетал, войдя в роль: «Извини, начальник».
Нечто в фольге оказалось белым шоколадом «Тоблерон». Я не сразу понял, что это съедобное, и даже сомневался — что неудивительно, ибо белый шоколад в СССР не производился и не продавался. Этот же достался от Фонда помощи политзаключенным.
Позднее Армен регулярно тем же образом выкидывал из кармана ксивы от Любани. Они были не очень информативны — Армен явно ставил условия, чтобы ничего о следствии в них не было. Однако сами письма с простыми «люблю, целую, жду» в серости камеры сверкали искренними чувствами и вызывали столь же искренние слезы. Я перечитывал их по несколько раз, прежде чем сжечь. Ничего такого в камере хранить было нельзя во избежание шмонов.
Шмоны случались регулярно — пусть и безо всякой периодичности. Дверь камеры внезапно распахивалась, внутрь врывались трое — четверо мужчин — кто-нибудь из них обязательно с дубинкой. Постель, белье, продукты — все летело в кучу на пол, менты осматривали углы и стены, простукивали шконки и решетку специальным деревянным молотком-киянкой на длинной ручке, заодно просматривали бумаги. Меня самого вытаскивали на продол и там безжалостно шмонали. Впрочем, никаких потерь за все время я не понес, и, видимо, в отместку ближе к финалу некий ретивый мент отобрал пояс для поддержки брюк, который я сплел из казенных ниток.
Сохранился от шмонов и дневник, который я вел в то время. Ничего интересного там нет, дневник вообще крайне монологический жанр, разве что может передать некие ощущения «здесь и сейчас»: 5 января 1980 г.
С утра голова парализована вязкой болезненной тяжестью. Несвежие мысли рвутся, не связываясь в нити. Сказываются месячная неподвижность и безвоздушье. Насильно заставляю себя не думать вообще ни о чем. Так легче. Суббота тянулась бесконечно. Лишь к вечеру боль отступила и стало свободнее дышать.
Наверное, плохо чувствовал себя не только я. Уже после отбоя заключенный одной из соседних камер принялся стучать в дверь. Что он просил, нельзя было расслышать — но после долгих просьб появилась медсестра. Она почему-то сразу ушла, но заключенный не прекращал стучать в дверь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
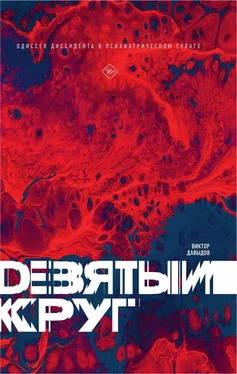




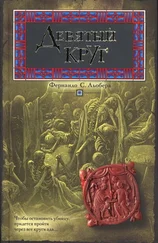



![Блейк Крауч - Девятый круг [litres]](/books/422789/blejk-krauch-devyatyj-krug-litres-thumb.webp)


