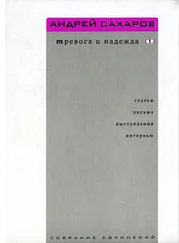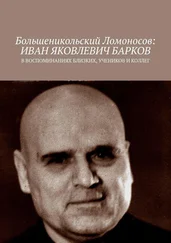Чтобы ускорить поступление в школу, я решил пойти в среду. Держа под мышкой целый ворох своих графических работ, с душевным трепетом и застенчивостью, вполне простительной мне — девятнадцатилетнему юноше, подымаюсь в канцелярию. Тот же Степан Степанович вводит меня в преподавательскую. За столом живописной группой расположились дежурные художники, от приговора которых зависит дальнейшая моя судьба. В центре сидит высокий старик с седыми бакенбардами — тип зажиточного польского шляхтенного пана — художник Дмоховский, возле него подвижной, бритый, с небольшими подстриженными рыжими усиками и блестящей лысиной — петербургский чиновник высшего ранга — художник Бухгольц, поодаль, сбоку стола, вертится волчком миниатюрный, милый, добродушный и розовощекий старичок — художник Милорадович, у стены стоит в мрачной позе высокий, худой, желтолицый, седой мужчина, художник Федоров. Все старики. Молодых среди них не было.
— Показывайте! — отрывисто, с заметным польским акцентом, обращаясь ко мне, сказал Дмоховский. Дрожащими от волнения руками я разложил свои рисунки, покрыв ими зеленое сукно большого стола. Рисунков много: было что посмотреть. Все четверо дежурных художников молча наклонились над ними и внимательно рассматривали. Мне были заданы лишь два вопроса: откуда я и у кого учился? Скромно и робко, но отчетливо я ответил, что прибыл из Киева, где в художественном училище моими педагогами были художники Менк, товарищ Репина, и старик Селезнев, последователь Альма-Тадемы. После этого мне было предложено удалиться в коридор. Я с тревогой в душе ждал приговора. . .
Минут через десять меня попросили снова предстать перед дежурным советом.
— Молодой человек, — торжественно обратился ко мне Дмоховский,— мы видим, что вы не хотите серьезно учиться. Все то, что вы тут нам показали, свидетельствует о вашей склонности к декадентщине. Наш совет вам — займитесь лучше делом, поступайте в университет или какое-либо другое специальное учебное заведение, но не обманывайте себя напрасной надеждой стать художником. Для этого у вас нет данных! Вы молоды, вы еще можете избрать более разумную и подходящую для вас карьеру!
Некоторое время я стоял ошеломленный. Пол подо мною уплывал. В висках стучало. Непривычно кружилась голова... Неужели все мои надежды рушатся? Неужели моя мечта стать учеником Билибина не осуществится! Собрав свои рисунки (это все были внеклассные композиции пером и акварелью), я в унынии стал спускаться по чугунной лестнице к выходу. Гул моих шагов напоминал мне падение комьев земли на крышку гроба.
Меня догнал на последнем пролете лестницы Степан Степанович. Он остановил меня и, дружески положив руку на мое плечо, спокойно объяснил мне, что я пришел неудачно — в дежурный день старых художников-реалистов, для которых мои декоративные "стилизации" как красный плащ быку. Им бы следовало показать классные рисунки с натуры.
— Я видел ваши работы, — сказал Степан Степанович,—и поверьте, у меня глаз наметан, вам нечего унывать. Приходите в пятницу. Будут дежурными наши молодые: Билибин, Рерих, Рылов, Щуко и другие. Я уверен, что вам будет оказан совершенно иной прием.
Мучительные, полные горьких сомнений дни пережил я до пятницы. Вечером, набравшись "мужества отчаянья", все же твердо решил вновь пойти на Мойку. Меня встретил с радушной, приветливой улыбкой, как старого знакомого, мой милый Степан Степанович и ввел в ту же преподавательскую. По виду и отношению ко мне присутствующих я сразу понял, что он уже рассказал им о моем фиаско. Все — Билибин, Рерих, Рылов, Щуко и Химона — с некоторым любопытством, шутя и весело обсуждая недостатки и достоинства моих "ювеналий", задавали мне наперебой вопросы о моем творчестве, о моих взглядах на искусство. Здесь же (без торжественного удаления в коридор) мне было объявлено: "Так как рисунков с натуры у вас с собою нет, то пойдете рисовать в младший класс орнамента, к Милорадовичу, но, как исключение, вам дано будет право уже до окончания рисовальных классов посещать графическую мастерскую Ивана Яковлевича Билибина, который находит, что у вас большие графические способности".
Эти слова произнес Н. К. Рерих, директор школы. Я был вне себя от радости. Я стоял перед дверьми сказочного Сезама.
В мастерской графики и композиции, руководимой Иваном Яковлевичем Билибиным, занятия производились два раза в неделю: в среду и субботу. Мастерская — огромная комната, уставленная длинными чертежными столами и табуретами. Когда я впервые вошел в мастерскую, там находились пять-шесть учеников и сам Билибин. Он встретил меня как старого знакомого, что-то, я помню, сострил насчет моей юношеской жиденькой бородки и представил мне всех моих будущих товарищей.
Читать дальше