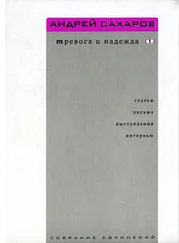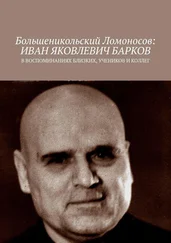Билибин получил классическое образование и отлично знал греческий и латинский языки. На этих языках он часто приводил на память отрывки из "Илиады" и "Одиссеи" или из стихов любимых поэтов. У Черного моря с новой силой пленяла его красота классических мифов, она делала его поэтом.
Любовь к античному искусству и поэзии глубоко вошла в его плоть и кровь. Это чувствовалось и в его восприятии красоты и в его требовании ясности и четкости образов, воплощаемых в искусстве. Любовь к классической стройности и ясности во многом сказалась в его подходе к графике и композиции. Художников, которые, по выражению Билибина, "мазали как попало", он называл "фальшивомонетчиками", считал, что модернизм — это иной раз ширма, за которую слабые рисовальщики и немощные компоновщики прячут свое бессилие: "Это — биржа, а не золотая валюта". Билибин так остро чувствовал красоту линии и ее выразительность, что его инстинктивно отталкивало от таких художников, как Судейкин. Это отталкивание, а возможно, и недооценка были взаимными. Однажды Билибин и Судейкин шутя спорили, кто из них знаменитее, и Судейкин сказал Ивану Яковлевичу: "Я — целый оркестр, а ты — только скрипка".
Уехав в сентябре 1917 года в Крым, Иван Яковлевич уже не возвращался в Петроград. Здесь, в Батилимане, был им написан ряд замечательных крымских этюдов и натюрмортов, выполнено несколько листов на темы былин о Святогоре. В сентябре 1918 года он рисует карандашом портрет моей старшей сестры Новеллы. Во время работы над ним Иван Яковлевич преподносит ей свое стихотворение {1}:
Моей модели (Н. Е. Р.)
Каждый день я влюбляюсь в тебя.
Каждый раз, что тебя я рисую,
И твой облик, глазами любя,
Я глазами любовно целую.
За чертами твоими слежу
И покорной рукой вывожу
Твоих линий капризных уклоны,
Переходы и грань плоскостей,
И намеки незримых костей,
И на них светотени законы.
Почему же неясен мне труд?
Почему он дается не гладко?
И когда же глаза мне найдут
Этих линий лукавых отгадку?
И на скрытые промахи злясь,
Каждый раз, за работу садясь,
Я лицо твое вновь изучаю;
И я вижу загадочный рот,
Тайну глаз, головы поворот,
И смотрю, и смотря намечаю.
И я долго сижу пред тобой.
Из окна виден юг озаренный,
Набегает лениво прибой,
Омывая утес раскаленный;
Но пускай себе Юг за окном,
Пред тобой о далеком ином
Зарождаются смутные грезы:
Ты не юг, ты не моря простор,
Ты не цепь перламутровых гор
И не пурпур полуденной розы.
Ты не Юг, ты не полдень, не зной,
Ты не нимфа Эллады нагая,
Ты далекий мой Север родной,
Моя Родина, Русь дорогая.
Ты убранство весенних цветов,
Ты кукушки тоскующий зов,
Ты веселое вешнее солнце,
Ты весенней зари небосклон,
Когда всенощной слышится звон,
А в избе заалело оконце.
К небесам не вздымается рост
Величавой главы каменистой,
Но так юн, безмятежен и прост
Березняк молодой и душистый;
И о той сокровенной красе,
Об алмазах в студеной росе
И о сказке лесной я тоскую.
И опять пред тобою сижу,
На тебя, как художник, гляжу
И тебя, северянку, рисую.
"Моей модели", Батилиман, 21 сентября 1918 г.
А переписаны сии вирши в июле 1926 г. с тоской по милому отошедшему в далекое прошлое Батилиману.
И. Б.
Новороссийск
К осени 1919 года мои родители с младшей сестрой Людмилой приехали из Крыма в Ростов, где я предыдущую зиму начала учиться в университете. В начале декабря, в связи с приближением фронта к Ростову, мы решили вернуться в Батилиман и выехали в Новороссийск. Родители сошли с поезда в Екатеринодаре, где отцу нужно было получить деньги в издательстве. Мы с сестрой должны были ждать их в Новороссийске, чтобы всем вместе переправиться в Крым. С этой же целью, но позднее нас, очутился в Новороссийске и Билибин.
Новороссийск был переполнен беженцами. Они жили в вагонах, в грязи, немытые и голодные. Свирепствовал сыпной тиф. Я заболела на следующий день по приезде в Новороссийск. Из наших знакомых о нашем приезде успел узнать только В. Э. Мейерхольд. Он принес термометр. Сестра ухаживала за мной, но через несколько дней свалилась и она. Когда родители приехали из Екатеринодара, они застали нас в тифу, без сознания, на полу маленькой служебной комнатки, где стоял только телефон. Нас устроил туда какой-то офицер, узнав, что у нас нет ночлега. Ухаживать за нами было некому, мы просто валялись. Устроив нас с большим трудом в больницу, отец должен был немедленно выехать в Крым. Ему написала бабушка, что моего младшего брата, недавно кончившего среднюю школу, остановили в Севастополе и, получив утвердительный ответ на вопрос, умел ли он стрелять, отправили солдатом на Перекоп. Папа решил попытаться высвободить его с фронта, возмущенный тем, что кадровые военные съезжаются с семьями к пароходам, а мальчишек посылают на фронт прикрывать их бегство. Мама так боялась, что отец в дороге заболеет тифом, что решила не расставаться с ним. Трагедию нашего положения облегчил Иван Яковлевич, приехавший в это время в Новороссийск. Как преданный друг отца и самоотверженный рыцарь Людмилы, он согласился взять под свою опеку "девочек Чириковых" и доставить их в Крым.
Читать дальше