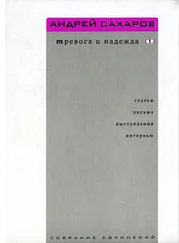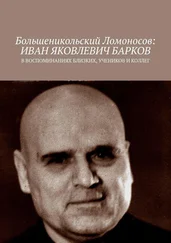Иван Яковлевич навещал нас в больнице по два раза в день и всякими путями сообщал в Севастополь о состоянии нашего здоровья.
В конце января 1920 года, еще очень слабые после болезни, мы находим приют, заранее приготовленный для нас отцом, в домике железнодорожного служащего в трех верстах от города. Почти постоянно дует норд- ост. Окошечки приморожены. Остриженные под машинку, мы сидим с ногами на диванчике, закутавшись в шубы. Сестра называет меня Меншиковым, так как я все время вспоминаю картину "Меншиков в ссылке". В мыслях— ожидание и ожидание... Многие, кто говорили: "Умрем, но не покинем Родины", начинают хлопотать о заграничном паспорте; линия фронта перешагнула через Ростов; носятся слухи, что в горах воюют зеленые; впереди— море; пароходов в Крым — нет. В это время Ивана Яковлевича приютил какой-то его поклонник с особняком и собственным погребком. Он окружил Билибина всеми земными благами, в том числе и своими сестрами и возил его к нам на собственной лошади. Иван Яковлевич жаловался, что вся эта компания ему ужасно надоела, но мужества лишиться земных благ у него не хватало. Некоторые блага перепадали и нам: две бутылки молока ежедневно, иногда и вино. К этому Иван Яковлевич прилагал со своей стороны шоколад, мандарины и курицу.
После уплаты в больницу, врачу, ночным сиделкам, за добавочные обеды, которые нам носили в больницу папины заботливые друзья, деньги, оставленные отцом, исчерпались. Иван Яковлевич, с болью отрывая от сердца, продавал этюды спекулянтам. Деньги его текли как вода, но у нас было все. Тогда мы в этом не отдавали себе отчета, подавленные чувством катастрофы и беспокойством за судьбы своих друзей и близких. Иван Яковлевич же соизмерял свои поступки с масштабом всего происходящего и с масштабом своих чувств. Много позднее я прочла его письмо к отцу, в котором он писал, что теперь не такие дни, чтобы считать, что "твое", а что "мое", и что он не хочет подводить с ним счетов, как не стал бы он это делать со своей матерью или братом. Иван Яковлевич был с нами по-отцовски трогательно заботлив, и, кажется, весь беженский Новороссийск знал о судьбе семьи Чириковых, и о том, что Билибин остался заботиться о нас, а также и о том, что за наши стриженые головы он называет нас "кокосовыми орехами".
По морям
Папа относительно выезда за границу колебался. Мы с сестрой, окруженные паническими слухами беженцев, пользовались всяким случаем, чтобы отослать записочку в Крым, и умоляли маму отправить папу за границу. На общем совете с Иваном Яковлевичем мы решили ехать в Константинополь с намерением оттуда переправиться в Прагу. Там мы с сестрой могли бы учиться и работать. С художественным оформлением книг, как говорили Ивану Яковлевичу, там тоже дело обстояло лучше, чем в других славянских странах. В Праге папу знали, любили и звали его туда, поэтому мы надеялись соединиться там с нашей семьей.
Иван Яковлевич продал своему меценату несколько этюдов и лист со Святогором. Тотчас, как он сделался Крезом, он по-рыцарски предложил отвезти нас за границу. Пройдя через горнило всяческих хлопот и миссий, очередей среди испуганных и растерянных претендентов в эмигранты, мы, наконец, 21 февраля поднялись на борт парохода "Саратов". Чтобы избежать скопления на пристани панически настроенной толпы и давки, пароход отвели к цементному заводу и там стали производить посадку. На пристани стояла только небольшая печальная кучка провожающих. Прощанье было суровым, быстрым и драматичным. Две красивые и юные женщины прощались со своими тоже молодыми и красивыми мужьями — очевидно братьями, оставшимися прикрывать эвакуацию белой армии. Какая-то дама то рвалась, как безумная, на сходни к своим двум детям, уезжавшим со старушкой-няней, то сбегала вниз и металась по берегу. Когда пароход отчалил, она упала без чувств. Мы предположили, что ей пришлось выбирать между безопасностью детей и где-то воевавшим любимым мужем. Но это оказалось не так: она выбирала между детьми и бриллиантами, где-то ею оставленными.
Когда кучка провожающих на берегу за расстоянием стала совсем маленькой, какой-то грубый мужской голос крикнул с облегчением и залихватски весело: "Прощай, Марья Ивановна!"
Но нам было невесело. С Марьей Ивановной оставалась наша Родина со своей загадочной нелегкой судьбой, оставалась русская земля, и маленькая ниточка ее видимости вот-вот готова была порваться. Иван Яковлевич грустно смотрел вдаль. Может быть, он думал как раз то, что сказал однажды о себе и нашей юности: "Нам, певчим птицам и цветам человечества, трудно петь и цвести в такие тяжелые времена".
Читать дальше