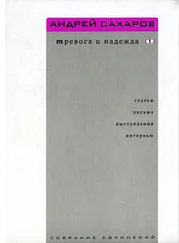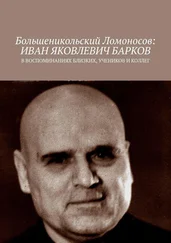Я был очень молод, когда слава Репина гремела, с понятным трепетом, робко, появился в мастерской и вот среди массы учащихся, кажется около 80 ч[еловек], я увидел молодого, жизнерадостного черноватого, с большой бородой для его лет, студентика с курьезной подпрыгивающей походкой, назывался он чаще всего Иван Яколич, а фамилию-то узнал после, и была она Билибин.
Вначале я отнесся к нему как-то недоброжелательно, потому что когда Репина не было в мастерской, то одним из первых застрельщиков по части острот, веселых разговоров и общих песенок за рисованием бывал часто Иван Яковлевич, но потом увидел, что это был милейший человек, очень веселый, общительный, а главное, работающий так, как будто бы рисование у него между прочим; случалось, что болтал больше с Мар[ией] Яковлевной] Чемберс-Билибиной (буд[ущая] жена), чем рисовал, а результаты же были неплохи в рисунке.
В то время уже ясно сказывалась в его работах графичность: натурщик "поставлен" еще не был, но твердая, определенная, несколько сухая линия и часто ложноубедительная была налицо. К живописи относился довольно равнодушно, напр[имер], рисовал в часы живописи, а если принимался писать, то больше выходила окраска. У Репина не был в фаворе, категории за рисунок получал средние — больше вторые, что считалось в общем не плохо, но не помню, чтобы были первые. В мастерской к отметкам относились как-то хладнокровно, потому что бывали, напр[имер], работы чисто иконно-малярного характера у некоторых товарищей, а Репиным превозносились. Путал он нас невероятно — определенно забывал, что говорил в предыдущее посещение: напр[имер], сегодня — японцы прекрасные рисовальщики, а завтра — это ремесленники, на которых и смотреть не стоит. Некоторые, увлекшись Цорном, забывали о Репине, и, о ужас, как он свирепо начинал поносить ослушника; бывал он и прав, когда резко обрывал за излишнюю разнузданность и все твердил о рисунке, но странная вещь, как-то нас не захватывало, и каждый работал, кто во что горазд. У нас в большой моде были большие холсты, которые серьезно, вдумчиво, даже иногда мрачно, размазывались огромными кистями, в ящиках внушительно лежали большие тюбики Мевеса (декоративные), сколько было испорчено белил, вероятно, не поддавалось учету.
И вот на этом фоне Билибин с аккуратнейшим лакированным ящичком, с маленькими тонкотертыми тюбиками, уже Лефранка, со своими точеным[и] рисунками и аккуратно крашенной живописью был удивительно ярко заметен и упорно не поддавался общ[ему] течению. Он определенно не любил "больших" живописцев и посмеивался над ними, а те, в свою очередь, скептически относились к его работам.
Все это выплывало в страстных дебатах, жили же мы все в высшей степени дружно, сплоченно, а потому все серьезные разговоры и обычные веселенькие прикрытые колкости оканчивались обыкновенно мирно и к общему удовлетворению.
Сошелся с Билибиным довольно быстро, и вот когда был у него, то он показывал свои работы, которые делал до поступления в "Тенишевку".
Этюдов, живописи было очень мало, а, главным образом, рисунки пером и почти поголовно сражения и войны Наполеона. Как это ни странно, но будущему "русскому" стилю не давал покоя Мейсонье, это были очень простые жизненные работы, и тогда мне лично больше нравились, чем его поз[д]нейший стиль; типично для Билибина, что он любил не Цорна, а именно Мейсонье. "Тянуть" линию он стал после того, как увлекся иллюстрациями одного французского] художника (фамилию не помню), где тонкий абрис, черный, был залит гармоничными сплошными слабыми тонами, были какие-то иллюстрации по поводу происшествий с Ж. Д'Арк {2}. Это была новость на нашем книжном рынке, и это увлекло Билибина и, по- видимому, потянуло к книге. Вскоре после этого линию он слегка утолстил, сплошной тон оставил и получился в конце концов "билибинский русский стиль", вначале с невероятной отсебятиной, а впоследствии выработавшийся, но всегда с чувством чего-то определенно чуть-чуть не русского, хотя знания его в этой области и были большие. Виновата в этом, вероятно, и французская книжка, в молодости ведь всасывается все очень сильно, но, конечно, тут и то, что "русского духа" он не нюхал, а воспитание имел городское, с боннами, иностранными языками и т. п. — первооснова нашего стиля, деревня ему была чужда. Ни няни, ни гения Пушкина, конечно, у него не было.
Все, кто знавали Ивана Яковлевича лично, не будут утверждать, что он обладал сильным характером, но настойчивость его и упорство в некоторых случаях было примечательное. На его знаменитую "проволочную" линию гонений было очень много разнообразного характера и со стороны товарищей по учебе, но он упорно стоял на своем и не сдавал позиций. Как только дело доходило до линии, то это был монолит, он весь напрягался, и видно было, что человек много думал об этом, вынашивал и что, в сущности, это вся его сила — отнимите, и он погибнет.
Читать дальше