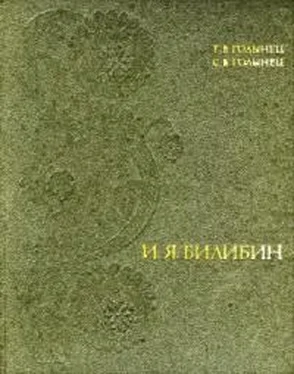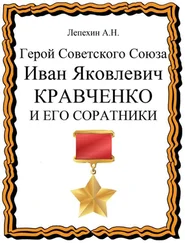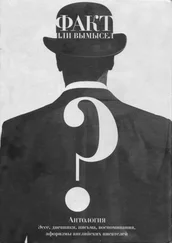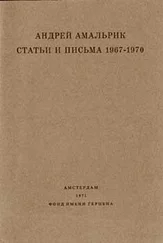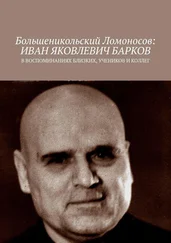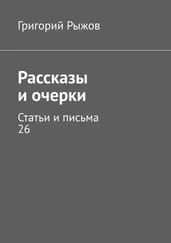— Сидим мы в "Якоре златом"
И говорим о сем, о том,
Я про грибы и патиссоны,
Про то, что мне по духу ближе. . .
Осмеркин же — о Барбизоне,
Версале, Шартре и Париже. . .
После начала войны я стал чаще встречаться с Иваном Яковлевичем, так как некоторое время мы жили рядом в подвале Академии, где размещалось наше бомбоубежище. Билибин с женой Александрой Васильевной Щекатихиной поселился в профессорском общежитии, в большом сводчатом помещении, которое мы называли "профессорским дотом". Напротив, в маленьком отсеке, жили я и Александр Израилевич Сегал, тогда исполнявший обязанности директора института.
Теперь черные глаза Ивана Яковлевича как-то особенно выделялись на осунувшемся, потемневшем и всегда грустном лице. Он по-прежнему следил за собой; одетый в ватник, неизменно был "при галстуке". "Это нужно, уверяю вас, это помогает", — шутя говорил он.
Вспоминаю "чаепитие" с Билибиным у меня дома, на Литейном дворе Академии. Как-то я сказал Ивану Яковлевичу, что, уходя в народное ополчение, я решил не уносить вещи из своей квартиры в здание Академии, как это сделали многие сотрудники. Мне хотелось, чтобы дома все оставалось по-прежнему, как в мирное время. Картины, книги и даже ковер на полу должны были ждать моего возвращения.
— И книги?—спросил удивленно Билибин. — Тогда пригласите меня в гости. Соскучился по книгам.
Я сказал, что в моей небольшой коллекции есть его театральный эскиз, костюм для танца "Смерть". Он захотел его посмотреть.
— Пойдемте, пойдемте. . . Этого нельзя откладывать.
Мы оделись теплей и пошли на Литейный двор. Я долго не мог открыть примерзшую парадную дверь, но потом какая-то девушка, боец противовоздушной охраны, принесла лом и помогла войти в квартиру. Там все было на месте, как в мирные дни, но все вещи, стол, кресла, картины были покрыты серебряным инеем. Мы сели на диван. Со стен смотрели на нас картины Серебряковой, Жуковского, Степанова, Бродского, Туржанского, Рериха, акварели Бенуа, Добужинского, Остроумовой-Лебедевой. Было очень тихо. За окном виделся мертвый, безлюдный двор, разбитая крыша студенческого общежития. Светило яркое, холодное зимнее солнце.
— Вам не кажется, что во всем этом есть что-то неправдоподобное, какая-то фантасмагория? Мы с вами пришли в прошлое. Здесь мои друзья- художники, мои картины и даже мебель... моя! Оказывается, это возможно, заморозить жизнь. . . А вот удастся ли ее воскресить! . .
Мы пошли на кухню. Окно там было открыто настежь, стекла выбиты воздушной волной. Весь пол замело сухим снегом. Иван Яковлевич посоветовал мне закрыть окно кухонным шкафом. "Хотя от этого теплей не будет", — буркнул он. Отодвинув шкаф, я увидел лежащий на полу окаменелый заплесневевший тульский пряник.
Это была счастливая находка.
Мы стали растирать пряник снегом. На плите, в кастрюле, на ее дне лежала ледяная чушка замерзшей воды. Я растопил плиту, набросав в нее обломки стульев, газеты, куски паркета, и разогрел чай. Пили мы в комнате, не снимая пальто, в шапках, замотанные шарфами. Началась воздушная тревога. "Граждане, спуститесь в бомбоубежище". . . В черной тарелке репродуктора тоскливо затикал метроном.
— К черту бомбоубежище, никуда не пойдем! Нельзя же отказываться от чая с пряником. . .
И мы стали мирно чаевничать.
— А вы знаете, я ведь крупный специалист по пряникам. Специально изучал это искусство. Фигурные пряники были на Руси уже в двенадцатом веке. Они считались чем-то вроде лекарства, так как имели магическое значение. Тот, например, кто хотел стать сильным и храбрым, съедал пряник с изображением льва или барса. Это шло от язычества, ритуальных приношений. Пряник мог быть визитной карточкой и даже письмом с объяснением в любви. Помню пряничные доски с надписями: "Не забуду вовек", "Дружба — любовь". . . А что же изображено на нашем прянике? Кажется, это солнце. . . Это хорошо, что солнце. . . А вот вы, наверное, не знаете, что петербургские пекари выпекали тульские пряники и ставили на них мои инициалы: "И. Б." Приписывали, так сказать, мне авторство. И, что интересно, мои друзья узнавали мой "почерк". Александр Бенуа похвалил рисунок и уверял, что он очень.. . вкусный. . .
— Сознайтесь, рисунок все-таки сделали вы? — сказал я. — Это была ваша халтура. . . для хлеба.
— Нет, я зарабатывал в те годы отлично, хотя деньги в кармане не залеживались. . . А меткое же это слово — хал-ту-ра. А? Что-то очень хамоватое и легковесное. Абсолютно противопоказанное культуре. Помню, Куприн очень оценил это словечко.. .
Читать дальше