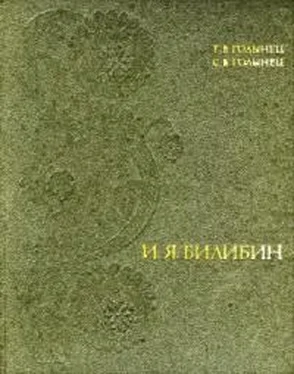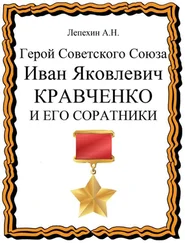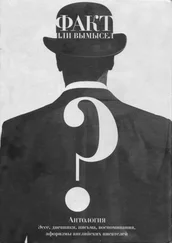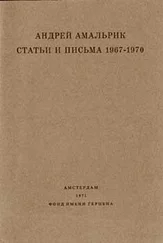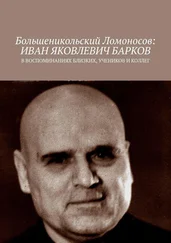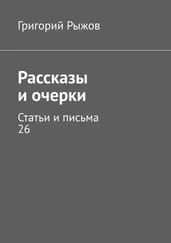В 1940—1941 годах я выбрал своей темой "Конька-горбунка". Иван Яковлевич долго присматривался к тому, что я делаю, не делая никаких замечаний. Я же чем больше работал над знаменитой сказкой Ершова, тем яснее чувствовал, что работаю я с необыкновенным до тех пор желанием сделать эту сказку.
Задание было на целый год, и я взялся делать все оформление книги и одну страничную иллюстрацию. И вот, примерно через месяц, Иван Яковлевич понял, что я окончательно связал свою судьбу с "Коньком", постепенно стал показывать мне кое-какие собственные приемы в работе над сказкой. Это была его стихия, и тут я увидел, сколько вещей запоминал художник. Роль памяти в его работе, мне кажется, была очень большой. Он прекрасно помнил и мог, что называется, наизусть нарисовать любой предмет из истории — будь то русского костюма, или оружия, или архитектуры. Он был одновременно и хранителем полезнейших советов для работы над сказкой. Надо было видеть, как он умел вывести на дорогу моего "Конька", когда тот упирался и упрямо не хотел идти у меня. Он мне напоминал тогда и тонкого художника, умевшего почувствовать, что нужно показать и рассказать неопытному юноше о композиции сказки, и опытного плотника, который прекрасно знал, как срубить и поставить дом. Он щедро показывал свои приемы и никогда ничего не скрывал.
Как-то весной 1941 года Иван Яковлевич пригласил нас к себе. После того как я побывал у него тогда, мне стали особенно понятными и приложимыми к творчеству Билибина слова Глинки: "Музыку создает народ, а мы, композиторы, ее только оранжируем". С научной добросовестностью Иван Яковлевич собирал сведения по русской народной культуре. Материалы для его сказок буквально окружали его.
Мы стояли у стола, на котором лежал подробнейший контурный рисунок, подготовленный для покрытия акварелью. Иван Яковлевич иллюстрировал тогда былины и работал по своему обыкновению по десять — двенадцать часов. Последний лист этой серии так и остался не тронутым акварелью и был показан впоследствии на большой посмертной выставке художника.
Мне тогда хотелось раствориться во всем, что я видел вокруг, а Иван Яковлевич уже говорил о кистях, сравнивая их возрасты, капризы и наклонности. . .
А. И. Харшак
Иван Яковлевич Билибин... В моей памяти навсегда запечатлелся облик человека высокой культуры, разносторонних знаний. Мне посчастливилось постоянно общаться с ним в течение четырех лет, я был его учеником в графической мастерской Академии художеств, куда Билибин был приглашен профессором сразу по возвращении на Родину.
В 1937 году в мастерской были только два курса и всего тринадцать студентов, она только начала существовать. У студентов и педагогов, одинаковых энтузиастов своей мастерской, были самые тесные дружеские отношения (хотя и начисто лишенные панибратства), в основе этих отношений было глубокое уважение студентами своих педагогов. И как было не уважать людей, которые с радостью делились громадным опытом, накопленным жизнью, прожитой в искусстве.
Иван Яковлевич отнюдь не принуждал и не ориентировал студентов работать в определенном, близком ему плане, он стремился подметить складывающуюся творческую индивидуальность и развить свойственные ей качества. Помню, однажды я обратился к Ивану Яковлевичу за консультацией по поводу пейзажа, выполняемого мною в офорте, рабочие оттиски которого были в разных состояниях, помню слова Ивана Яковлевича:
— К пейзажу может быть разный подход, чему пример пейзажи Куинджи, Левитана, Шишкина, Рериха. В каком плане вы мыслите вести свою работу, что вам ближе всего? Применительно к этому я выскажу свои замечания.
Когда Билибин чувствовал большую творческую близость студента к своим коллегам Рудакову или Шиллинговскому, он рекомендовал обращаться к ним. И они, в свою очередь, поступали так же. Этот контакт между педагогами создавал по-настоящему творческую обстановку в нашей мастерской.
Помню Ивана Яковлевича всегда подтянутым, жизнерадостным и очень остроумным. Общение с ним доставляло подлинную радость нам всем.
Мне кажется, что присущий ему в этот период оптимизм и чрезвычайная работоспособность и уверенность являлись не только свойствами его характера, а и следствием возвращения его на Родину. Билибин всеми своими корнями, всей своей культурой и творчеством глубоко русский человек, и, больше того, прогрессивный, передовой русский человек, и естественна его тяга к возвращению на Родину и то глубокое удовлетворение, когда он почувствовал себя в Советской России по-настоящему дома.
Читать дальше