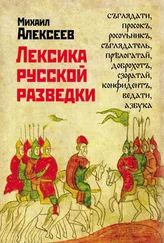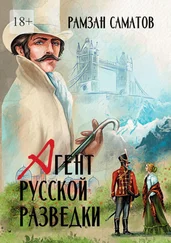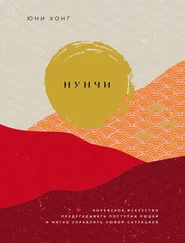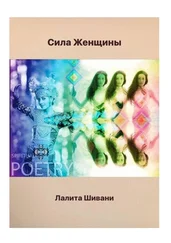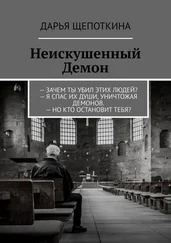— Юрий Михайлович, а что бы вы могли назвать наибольшим успехом вашего отца как разведчика?
— Понимаю, что для вас это вопрос ключевой. Но я думаю, что все же не смогу адекватно оценить заслуги Михаила Матвеевича как разведчика и объяснить это вам. Могу только дать какие-то штрихи, наводящую информацию для такой оценки. Вообще мне кажется, что отец не относился к тому ряду выдающихся асов разведки, как, скажем, Григулевич, Быстролетов, Дейч (Стефан Ланг)… как Рудольф Иванович Фишер (Абель), Александр Михайлович Коротков. Я реально смотрю на вещи, я ведь уже не юноша. Разговаривал со многими разведчиками, в том числе и с теми, кто знал отца. Да даже и по роду своей работы в Кремле мне доводилось с ними общаться. Поэтому я в какой-то мере могу оценивать работу разведки и разведчиков. Не могу конкретно оценить отца — у меня ведь и сейчас нет всей информации о нем.
Но ведь очень многого можно было достичь, оставаясь в положении, так сказать, неприметного чернорабочего разведки. Парадокс деятельности спецслужб заключается в том, что имя разведчика часто становится известным потому, что он провалился. А имя отца удалось сохранить в тайне до сегодняшнего дня — пока сама разведка не захотела его раскрыть. И при всей «неизвестности» Михаила Матвеевича — его фотографии в Музее истории разведки в Ясеневе, некоторые его личные вещи. Это, конечно, лишь внешние признаки успеха. Но это и еще один парадокс.
Знаете, когда я пришел в Кабинет истории разведки в Ясеневе перед своим первым космическим стартом на станцию «Мир», мне там дали маленькую справочку об отце. Из нее следовало, что с некоторыми завербованными им агентами работа продолжалась долгие годы. То есть его не то что в Турции не было — его уже не было на свете, — а работа с людьми продолжалась. Думаю, вы можете представить, какой задел он после себя оставил. А один из его агентов оказался немцем — то есть человеком с воюющей против нас стороны.
Ну, может быть, еще одна история. Я уже рассказывал о книге, в которой совсем недавно был опубликован первый автобиографический очерк об отце. Ее авторы оповестили меня: «Юрий Михайлович, ставим столетний юбилей вашего отца в календарь памятных дат разведки на 2004 год». Я им говорю: «Мне, конечно, приятно. Но, может, с календарем — это уже перебор?» — «Не скажите, — отвечают мне. — У нас не так много разведчиков, которым каждый год давали бы по ордену, а то и по две награды». За что отца награждали, я, к сожалению, и сегодня знать не могу.
— Михаил Матвеевич за заслуги в разведывательной работе был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды и многими медалями. Но мне интересно вот что: ваш отец дважды получал нагрудные знаки «Почетный чекист». Я слышал, что у разведчиков особое отношение к этой награде.
— Она действительно ценится разведчиками выше любого ордена. Отец был награжден двумя знаками «Почетный чекист». А этой оценки в среде разведчиков удостаивались очень и очень немногие.
Размышляя логически, по-моему, не так уж трудно догадаться, какого рода работу эти награды увенчивали. Достаточно представить тогдашнюю, насквозь прогерманскую Турцию и все опасения советского руководства по поводу очень даже вероятного ее вступления в войну против СССР — особенно в критическую осень 1942 года, когда вермахт рвался не только к нефтепромыслам Каспия, но и к выходу на побережье Черного моря в районе Батуми. А это уже была граница с Турцией. Вряд ли тогда турецкие власти избежали бы искушения оккупировать Закавказье.
Взять пример Рихарда Зорге. В обывательском сознании сложилось устоявшееся мнение, будто главной его заслугой было сообщение о дате нападения Германии на СССР. Но об этом разведчики сообщали в Центр из разных стран. Сегодня самым серьезным достижением Зорге признается его информация о том, что Япония воздержится от нападения на СССР, пока Германия не добьется решающих успехов на Восточном фронте. Собственно, информацию подобного рода — о степени готовности и решимости Турции вступить в войну против СССР — ждали в Центре.
Далее. По мере продвижения Третьего рейха к своему краху Турция — не только Швейцария! — превратилась в очень удобную переговорную площадку для торговли между Германией, ее сателлитами и нашими западными союзниками по поводу заключения сепаратного мира. Небезызвестный Вальтер Шелленберг во время своего вояжа в Турцию обратился к фон Папену «в надежде осуществить планы заключения компромиссного мира, учитывая его контакты с Ватиканом». Об этом Шелленберг откровенно писал в своих мемуарах. Так что, думаю, нет ничего необычного в том, какое огромное значение Центр придавал работе советской резидентуры в Турции и почему он так высоко оценивал ее заслуги.
Читать дальше
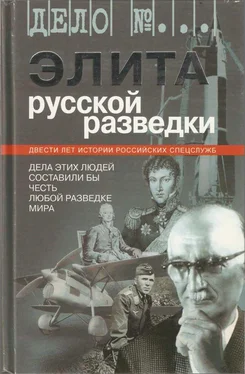

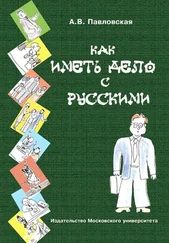
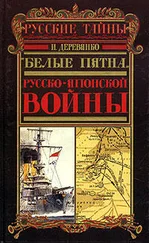
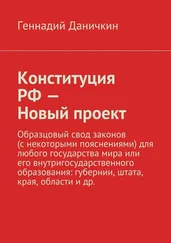
![Юни Хонг - Нунчи [Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко управлять любой ситуацией] [litres]](/books/403394/yuni-hong-nunchi-korejskoe-iskusstvo-predugadyvat-thumb.webp)