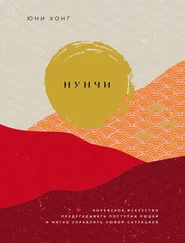Перед вторым полетом — на МКС — вместе с Талгатом Мусабаевым и американским космическим туристом Деннисом Тито эмоциональное напряжение было уже не столь велико. Но камень в основание традиции был уже заложен. И я снова позвонил в Ясенево. А там директором был уже Сергей Николаевич Лебедев. И у него никаких возражений не возникло. Он вместе со мной в музей сходил, потом беседовали в его кабинете.
— Можете ли вы сказать, что «сверяете жизнь» по отцу?
— Наверное, нет. У меня вообще нет образца, которому я старался бы во всем подражать. Я живу собственной жизнью. Личность отца, разумеется, наложила на меня огромный отпечаток. Не просто отпечаток — я часть своего отца. Но одновременно я часть и других людей, конечно.
— Сошлись бы вы с отцом во мнениях по поводу сегодняшних российских реалий? И вообще, можно ли было спорить с Михаилом Матвеевичем?
— Нет, спорить с ним было трудно. Потому что он обидчив был. И я даже старался избегать подобных ситуаций.
Я думаю, что мы не спорили бы по поводу сегодняшних реалий. Мы просто определили бы, что у нас общего, а в чем мы расходимся.
— Однажды ваш отец сказал (и вы эту фразу записали): «Я остался жив, потому что всегда сторонился политики». Вы к этим словам отца не прислушались.
— Я понимаю, что он бы этот мой шаг не одобрил. Но я — это я. Живу в другое время. И у меня свои представления о том, что нужно делать, а что — нет. Я пошел в политику не потому, что она мне очень нравится как таковая, что жить без нее не могу. Я сейчас прекрасно живу без политики и совсем в нее не лезу. И прекрасно себя чувствую. Хотя мои коллеги-космонавты идут в депутаты. И мне предлагали. Но я не иду. Идя в политику, я хотел сделать для страны максимум того, что мог. Все знания мои применить. Мне казалось это правильным.
— А с каким настроением вы ушли из политики? С разочарованием?
— Нет, я ушел немножко истерзанным, что ли. Я чувствовал, что как личность деформировался. Это отдельный разговор, особый, сложный. Мне тогда нужно было какое-то еще более сильное воздействие, чтобы восстановиться, чтобы личность вновь обрела правильную конфигурацию. И мне кажется, космос мне в этом помог.
А вообще-то, с тех пор, как я оставил политику, прошло уже шесть лет. Немалый срок. Если бы мне предложили вернуться в нее три года назад — я бы отказался. Но за последние два года у меня по крайней мере исчезла идиосинкразия к политике, то есть она уже не вызывает прежних болезненных реакций отторжения. И если бы мне сегодня предложили вернуться в политику, я стал бы серьезно думать.
— Скажите, ваша страсть к языкам — это наследственное или благоприобретенное? Журналисты, по-моему, уже сбились со счета, определяя, каким количеством языков вы владеете.
— Да, собственно, нет у меня такой страсти. А журналисты очень часто грешат неточностями. И я с большой настороженностью отношусь к тому, когда кто-то говорит, что я знаю много языков. За собой я числю сегодня три: английский, шведский и сербско-хорватский.
Кстати, отец, свободно владевший турецким и не знавший проблем с французским, не то что не поощрял мое желание овладевать иностранными языками — он просто противился этому. В мои школьные годы как раз стали создаваться спецшколы с изучением ряда предметов на иностранном языке. И одна из таких школ — английская — появилась совсем рядом с той, в которой учился я. Объявили туда набор. И не было бы проблем с переводом в спецшколу — в своей-то я был отличником — если бы не отец. Он сказал: «Не нужно это Юре». Он очень хорошо знал, как жилось в то время людям, которые выезжали на работу за границу или работали с иностранцами в Союзе. Он считал — и в чем-то был, безусловно, прав, — что это может печальнейшим образом сказаться на судьбе.
Иностранный язык — и это был английский — я начал учить, кроме школы, конечно, оказавшись в Московском физико-техническом институте. Никакого разрешения для этого мне, студенту, уже не требовалось. Предмет был обязательным, и изучали его три года. Затем в том же обязательном порядке нужно было учить второй язык. Не буду утомлять читателей деталями, но так получилось, что я три года изучал в Физтехе японский язык, брался за французский, немецкий. Но единственное, чего я достиг в немецком, — того, что мог переводить техническую литературу. Общаться на нем я никогда не мог.
Однажды, уже после окончания МФТИ, мне пришло в голову, что я должен стать специалистом со знанием редкого языка. Я выбрал шведский язык. При этом вы должны учесть, что уровень соображения у меня тогда был гораздо ниже, чем сейчас. Я занимался с преподавателем частным образом. Уровень, которого я достиг, — примерно пять семестров вуза. То есть нельзя сказать, что я шведский хорошо знал. Но я по крайней мере прочитал в оригинале «Карлсона», «Пеппи Длинныйчулок», несколько шведских детективов. И мог объясняться. Кстати, в Швецию я попал только двадцать лет спустя. И понял, что там все прекрасно знают английский язык. И все самые важные свои публикации по проблемам экономики, каким-то техническим направлениям, по вопросам культуры они печатают на английском языке.
Читать дальше
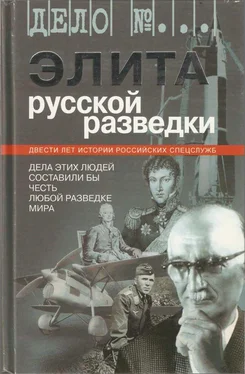




![Юни Хонг - Нунчи [Корейское искусство предугадывать поступки людей и мягко управлять любой ситуацией] [litres]](/books/403394/yuni-hong-nunchi-korejskoe-iskusstvo-predugadyvat-thumb.webp)