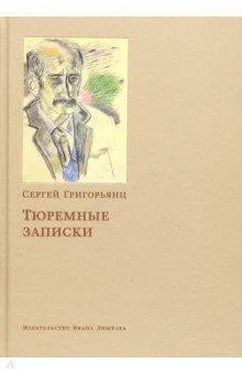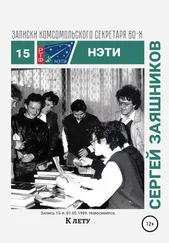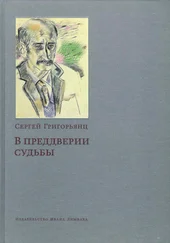Уже на следующий день я начал жаловаться на боли в сердце и просил придти врача. Врача в это время в 37-й зоне не было, его заменяла жена одного из офицеров, по профессии, кажется, зубной техник. Она послушно пришла, стетоскопом для чего-то послушала вену на шее и спросила, что обычно я принимаю. Я не принимал ничего, никаких почти лекарств не знал и наугад назвал, как мне казалось, самое сильное — нитроглицерин. «Хорошо, дежурный будет вам его давать».
И я начал каждый день, а иногда и по два раза в день просить таблетки нитроглицерина. Среди жалкого моего имущества была белая круглая пластмассовая коробочка из под зубного порошка. И я начал раздавливая маленькие белые таблетки собирать их в эту пустую коробочку. Казалось, что в ней остатки зубного порошка. Коробочку эту пустую я положил в угол на подоконник и ее за ее полнейшей ничтожностью там оставляли, не забирая с остальными вещами, даже когда опять объявляли мне пятнадцать суток ШИЗО. Чем бы это кончилось — не знаю, сделав какую-то глупость, от испуга я бы эти таблетки все проглотил. Их я считал. К концу было сорок три и, вероятно, в моем ослабленном состоянии мне бы этого хватило если бы понадобилось.
Для меня имели основное значение не историко-идеологические соображения, не то, что КГБ преступная организация, бесконечно более страшная по результатам своей деятельности, чем официально признанное преступным на Нюренбергском процессе гестапо, но скорее — эмоциональное неприятие той ежедневной лжи и насилия, которые от них исходило, невозможность оказаться в такой компании, полное неприятие людей, до основания пропитанных демагогической ложью и преступлениями. Я не считал их людьми, совершенно не стеснялся, не считался с мнением людей, которые читают мои письма, слушают телефонные разговоры, заглядывают в окна. Это делают лакеи, а при лакеях не стыдно раздеваться. Другое дело, что лакеям незачем все о тебе знать и некоторая не деформирующая доля скрытности бывает полезна. Никаких торжественных слов на судах я не говорил, не умел говорить, отношений ни с кем не выяснял, но оказаться с ними в одной компании для меня, действительно, было хуже смерти.
Но все же убивать ни меня, ни Толю Марченко они не собирались, а тот максимум, до которого рискнули дойти, ни с ним, ни со мной ничего не дал. И внезапно, однажды утром, вызвали Толю Марченко, а после его возвращения — меня. Оказалось, что это выездное заседание суда, на котором мне «за нарушение режима содержания» вновь был определен тюремный режим. Видимо, то же было и у Толи, но мы оба были уже в таком состоянии, что ничего друг другу не сказали. Впрочем, все было ясно. Как в Перми мы с Толей были в разных камерах, так же нас поодиночке судили, и так же этапировали в Чистополь. Сперва Толю, дней через пять — меня, на этот раз одного. Как привезли Толю — не знаю, но когда привезли меня, встречавший, как и раньше, начальник тюрьмы Ахмадеев спросил меня почти с возмущением:
— А почему вас, Григорьянц, опять привезли?
Полуудивление, полувозмущение Ахмадеева, как и его вопрос полтора года назад, почему меня возят со спецконвоем, были не по адресу и скорее забавны, но в этот раз мне хотя бы была понятна их причина. В единственную советскую политическую тюрьму заключенные не попадали самотеком, как в уголовные тюрьмы, во всяком случае из четырех политлагерей строгого режима. Чтобы поддерживать в тюрьме нужную им стабильность, а значит — гораздо большую разобщенность тех, кто находится в двух десятках камер политического коридора в тюрьме, заключенных специально подбирал в зонах куратор от КГБ Калсанов периодически их объезжая и согласовывая стремление начальников колоний от кого-то избавиться с возможностью сохранения спокойствия в тюрьме: не слишком много украинцев, литовцев, евреев, по возможности наиболее далекие друг от друга русские политзаключенные, достаточное количество стукачей. А главное, в Чистопольскую тюрьму больше не привозили никого с особого режима. Если мою голодовку об усах тут же поддержали «особняки» — Аршакян и Навасардян, то далеко не только потому, что были армяне, но главным образом потому, что это было наглое нарушение администрацией прав предусмотренных ИТК. Поэтому же меня сразу поддержал Коля Ивлюшкин. Но это оказалась последняя коллективная голодовка в тюрьме. Если до этого были общие голодовки с требованием вызова врача к Некипелову, нормального получения писем из дому Казачковым, то больше коллективных голодовок и протестов в Чистопольской тюрьме не было. Добилась этого администрация в основном двумя способами. Когда кончился тюремный срок у полосатиков (Юрия Шухевича, Аршакяна, Навасардяна, Марта Никлуса, Приходько), больше из особого режима никого в Чистополь не привозили, а именно эти люди были и наиболее энергичными, отважными, склонными защищать свои права. Остались политзаключенные только со строгого режима, как правило впервые арестованные, менее склонные к коллективным действиям и даже не умеющие наладить стабильную межкамерную связь, что очень заметно по воспоминаниям Михаила Ривкина «Два года на Каме». Теперь уже гораздо более серьезные причины: поломанная охранниками мне рука, наглая фабрикация новых сроков по безобразной тоже новой статье 1883 Порешу и Ивлюшкину, гибель сперва Марка Морозова, а потом и Толи Марченко, вызывали лишь одиночные, а иногда и однодневные голодовки протеста Миши Ривкина, мои, иногда еще кого-то. Принять одного Толю Марченко в совершенно изолированную камеру в Чистополе соглашались, но еще и меня видеть не хотели. Поэтому Савченко мне предлагал полную изоляцию в колонии, а когда опасаясь с моей стороны новой голодовки, протеста все же тайком вернул меня в Чистополь это так возмутило Ахмадеева.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу