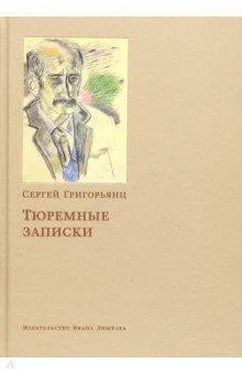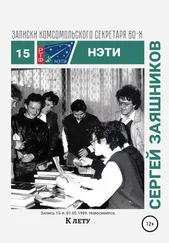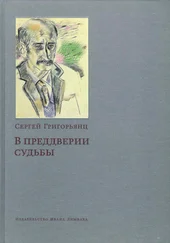Судя по вопросу Ахмадеева, стремление избавиться от меня у полковника Савченко было так велико, что мое возвращение в Чистополь он с Калсановым не согласовал. А, из-за стремления держать в изоляции от остальной колонии меня и Толю, в 37-ой зоне на полгода не осталось ни изолятора для вновь прибывших, ни ПКТ, ни ШИЗО.
Третий срок в Чистополе я надеялся слегка отдышаться, впереди было еще четыре с половиной года, и я понимал, что так, как я живу в тюрьме вряд ли дождусь конца срока. Меня это не очень тревожило — я действительно не думал, что выйду живым, но все же полагал, что можно быть немного поаккуратнее. Почти сразу же тем не менее попал в карцер, кажется, за нежелание слышать «тыканье» охранников и напоминание им, что нужно говорить «вы». Так же, как для Ривкина фантастическое требование сдавать по восемь сеток в день, для меня, который за три с лишним года не связал ни одной сетки (и мне это и не предлагалось), возможность по желанию администрации начать охранникам говорить мне «ты» — были простым и стандартным поводом для водворения в карцер. Впрочем, в карцере я теперь бывал не так часто, но однажды — попал не в наш, пусть и без досок на полу, но теплый, а в холодный, полуподвальный уголовный. Интересно мне это было очень, заставляло вспоминать первый срок и в особенности Верхнеуральск. Я забегаю несколько вперед — в этот карцер я уже попал весной 86 года, но те наблюдения и выводы так были связаны с политическими и лагерем и тюрьмой, что скажу о них сразу. В уголовных карцерах, с которыми я переговаривался, иногда передавал сообщения от правых моих соседей к левым, в эти дни шла активная подготовка к тюремной голодовке (уголовных в небольшой Чистопольской тюрьме было все же раз в десять больше, чем политических). Нас они в расчет не принимали, считали чужими, да и мне, хоть причина голодовки казалась оправданной (но не могу ее вспомнить), сказать соседям было нечего. Если в политических зонах бывали коллективные протесты и голодовки, пусть не всей колонии, но хотя бы диссидентской ее части, то в тюрьме, из-за тщательного подбора теперь в нее очень разных людей, постоянной их перетасовки по камерам, а, главное, из-за практически не налаженной внутрикамерной связи: только кружка или унитазы, но не тюремная азбука, которой никто на строгом не знал и уж тем более не «кони», то есть не передача сообщений между камерами по воздуху — все это очень разобщало теперь политзаключенных в Чистополе. К тому же почти каждый из них надеялся на передачи, на свидания с родными, на возможность покупки продуктов в тюремном ларьке, не говоря уже о боязни карцера или перевода на строгий режим, и потому и в коридоре при выводе на прогулку или просто у двери громко сказать, чтобы во всех камерах было слышно, практически никто не отваживался. А отрицаловка из уголовников ни на что подобное не надеялась — давно были всего лишены, испугать их было нельзя, и не только во всей тюрьме, но и прямо перекрикиваясь в карцерах обсуждали свои планы. Только какие-то тайные передавались азбукой по стене, или по трубе — и иногда через меня. Когда 80 дней голодал Иосиф Бегун, требуя, чтобы евреи могли содержаться в одной камере, его пока был в состоянии, поддерживал только Миша Ривкин, хотя это не было чисто еврейской проблемой — всех нас помещали в камеры с самыми неблизкими, если не враждебными нам соседями. Когда погиб Марк Морозов, голодовку объявил только Миша Ривкин, но никому этого громко не сказал и, скажем, Сендеров — сосед Марка, я — в соседней камере, но все это по другую сторону коридора, о его голодовке не знали. И даже Толя Марченко, когда объявил свою последнюю смертельную голодовку, которая касалась всех без исключения — освобождение всех политзаключенных, не как рекламная акция перестроечных коммунистических вождей, а как результат борьбы политзаключенных за свое освобождение, долгое время никому не сообщал о своей голодовке и ее цели. Кстати говоря, я думаю, что Ривкин в своих воспоминаниях ошибается, когда полагает, что Толю держали в грязной двухместной камере, расположенной над карцером и каждый день он слышал его шаркающие шаги по коридору для вливания ему искусственного питания. Насколько я понимаю, Толю с первого до последнего дня держали в большой, но максимально изолированной камере, где с одной стороны была лестница, с другой — кабинет начальника отряда. Так что никому через стену он ничего сказать не мог. Соседями у него всегда были стукачи, вроде Осипова, потом он остался один. К тому же это совсем не похоже на Толю, чтобы его каждый день водили по коридору, а он ничего нам не сказал во всеуслышание о своей касающейся всех голодовке. Да на такой риск и никогда бы не пошли гэбисты. Вливали искусственное питание Толе, конечно, прямо в камере.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу