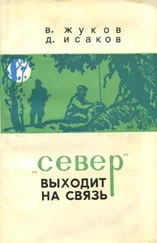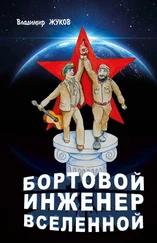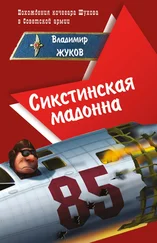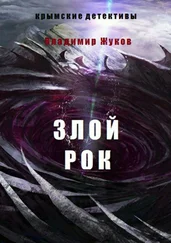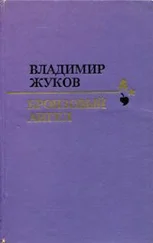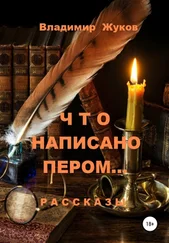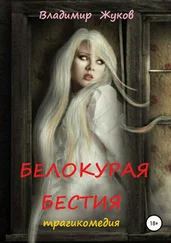Подбельский ответил, что понимают. В общем и среднем, конечно, за каждого в отдельности поручиться нельзя. Хотя надо бы. Ведь речь идет о московских средствах связи, этом похожем на сгусток живых нервов узле линий телеграфа, телефона, линий железных дорог со снующими по ним почтовыми вагонами.
Можно ли говорить о государстве, о государственном управлении, если в этот узел вплетены бездействующие нити, если сам узел станет душить, обрывать все живое, действенное — подходящее к нему или начинающееся от него? Но он видел, какими пугающими темпами нарастает разруха в почтовом ведомстве; за несколько месяцев комиссарства многое понял, узнал и теперь, положа руку на сердце, мог бы без ошибки сказать, что почтово-телеграфное ведомство являет собой наиболее дезорганизованную отрасль всего административно-хозяйственного аппарата Советской республики.
Давать телеграмму не было смысла, ее доставят — если вообще доставят — по времени, как письмо; письма лучше не ждать, а доставку газет почта совсем прекратила. Он собрал точные данные: уже стало обычным, что городское письмо идет от трех до пяти дней, хотя его полагалось прежде доставить в тот же день, в крайнем случае — на другой, завтра; письмо из Питера в Москву надлежит получить через день или два, а оно идет и пять и шесть…
И дело не только в качестве работы почты и телеграфа — сократился ее объем. Не по своей, конечно, вине, но ни телеграфной линией, ни почтовым вагоном не дотягиваются они уже ни до Украины, ни до Туркестана, Закавказья, Прибалтики, Северо-Запада, Дона… Правда, потерю территорий по Брестскому миру еще можно разъяснить через окошко почтовой конторы. А вот как объяснишь страшную задержку писем и посылок в пути, запоздание телеграмм, постоянный отказ в выплате денег по переводам? Разруха изнутри, развал почтового аппарата — вот и вся причина. А следствие — потеря доверия к почтово-телеграфным учреждениям. И затем уж — недалеко осталось — привычка, что их как бы и нет в стране. Ведь не случайно стали плодиться в Москве и других городах разного рода частные конторы и артели, которые за высокую плату берутся доставлять корреспонденцию даже на Кавказ, в местности, оккупированные немцами, гоняют туда и обратно нарочных…
В мыслях Подбельского, когда он думал о сложившемся положении в деле, к которому стал твердо причастен, часто возникало понятие «стихия», в него легко укладывалось многое из того, что происходило, и, наверно, можно было бы на том и успокоиться, решить, что надо переждать какое-то время, дождаться перемен. Да, стихия, решал он, и тут же возникали другие причины бедствия, которые под эту статью не подведешь, да и можно ли подводить?
Скажем, саботаж старого чиновничества. Пожалуй, ни в одном ведомстве он не получил такого распространения, как в почтово-телеграфном. И знал ли тот же Бонч-Бруевич, сколько уже сил положено на то, чтобы оторвать от всех этих кингов, миллеров, рудневых, войцеховичей огромную массу служащих? Потому что рядом с политическим саботажем шел саботаж бессознательный, желание отделаться от дисциплины, от надоевших еще при царе правил и распоряжений.
Сотни людей самовольно сокращали часы дежурств, время сдачи почты, количество выемок из почтовых ящиков, а кинги и миллеры кричали им: браво, ваше право теперь решать, какой быть почте!.. Была еще надежда, что в Петрограде, в Народном комиссариате почт и телеграфов, что-то сладится, какая-то пройдет оттуда освежающая и отрезвляющая волна власти. Но если он, московскийокружной комиссар почт и телеграфов Подбельский, не получал, в сущности, никаких инструкций оттуда, то что ждать другим, какому-нибудь начальнику почтовой конторы или разносчику телеграмм, телеграфисту?
Когда правительство переехало в Москву, Подбельский обрадовался: ну, хоть теперь встречусь с наркомом; спросил у Бонч-Бруевича, где его искать, но тот хмыкнул как-то неопределенно, повертел в воздухе рукой. А потом грянуло 15 марта, и все стало ясно — газеты объявили, что вследствие несогласия с условиями Брестского мира партия левых эсеров отзывает из правительства семь «своих» народных комиссаров, один из них — нарком почт и телеграфов Прош Перчевич Прошьян…
Вот, как ни крути, еще одна, новая причина развала. И без того дезорганизованный комиссариат обезглавлен, остался на руках малочисленной и малоспособной к каким-либо действиям коллегии.
И все-таки, когда выпадало время, Подбельский старался встретиться и поговорить с кем-нибудь из руководства прибывшего эшелонами из Петрограда Народного комиссариата почт и телеграфов. Управления и отделы мучительно трудно устраивались на новом месте. Все жаловались, что эвакуация шла наспех, без всякого плана, и теперь сам черт не разберет, где какие бумаги. Плохо было и с помещениями: чрезвычайная реквизиционная комиссия определила для размещения комиссариата дом Вострецова на Большой Дмитровке, в котором уже довольно давно размещался Московский литературно-художественный кружок. И все бы ничего, но вскоре в части отведенной площади отказали — в библиотеке кружка и примыкающих к ней комнатах, в помещениях школы живописи; взамен отдали два флигеля в соседнем дворе, но опять их отобрали, предложили взамен ресторан «Ампир». Почтовики спорили, для них реквизировали помещение женского коммерческого института, а вскоре из той же реквизиционной комиссии пришло разъяснение, что все учебные заведения подлежат освобождению для использования по своему прямому назначению.
Читать дальше