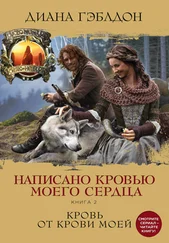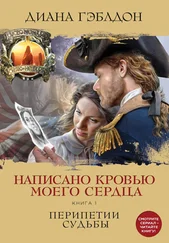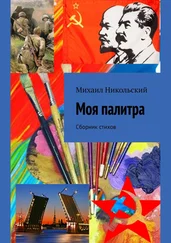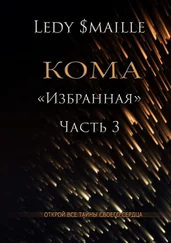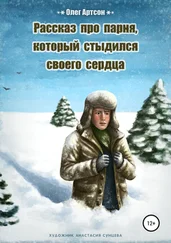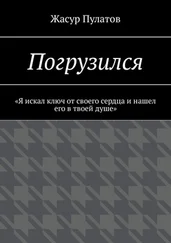Дело еще до революции было. Мужики сельские в воскресенье собирались за деревней, чтобы выбрать самого сильного. Как-то отец мой, еще гимназист восемнадцати лет, вышел вместе с ними.
— Ну, давай, Шурка, попробуй с сильнейшим побороться. Навряд одолеешь? — подзадоривали окружающие.
А отец взял того мужика за пояс, поднял да об землю бросил. Тот полежал немного, приходя в себя, но, по словам бабушки, после того он две или три недели болел, а потом умер. С тех пор отца считали самым сильным в деревне, и бороться с ним редко кто решался.
Мы с мамой, увидев происходящее у колодца, подняли крик, закричал и отец. Его голос узнали крестьяне, не успевшие еще далеко отойти. Они тут же вернулись обратно к школе. Бандиты из балаховцев 20, услышав приближающихся людей, бросили отца и нашего гостя и ускакали на лошадях. Отец говорил потом, что один из них был местным жителем, но чтобы его не узнали, он вымазал лицо сажей, а на голову надел шапку-ушанку. Помедли сельчане минуту-другую, и отец был бы сброшен в колодец вместе с уполномоченным. Мы убедились тогда, что разговоры о бандитах — не пустые слова.
В очередной раз, когда отец поехал в Любань, он попросил заведующего районо 21перевести его подальше от глуши. И дело не в том, что он боялся за свою жизнь. Бандиты расправлялись и с семьями коммунистов, а отец очень нас любил и не хотел потерять. Приходилось быть более бдительными, закрывать на ночь ставни, приглядываться к незнакомым. Мы укрепили двери и поставили в сенях на всякий случай топор и дубину.
Это все, что я помню о Малых Городятичах.
Сразу после окончания учебного года, как и просил отец, пришло направление из районо, и мы стали готовиться к переезду на новое место. Это была начальная школа деревни Заельное Яменского сельсовета Любанского района. Не буду задерживаться на том, как мы переезжали на четырех подводах со всем нашим добром, коровой и поросенком. Особых происшествий не было, хотя и добирались мы трое суток.
Начальная школа в деревне Заельное располагалась на окраине по дороге на Любань. Здесь же была квартира для учителя и его семьи, и большой класс для занятий, которые шли так же в две смены. Здание школы было красивым, с палисадником и цветами. Во дворе — колодец, сарай, большой навес для дров, погреб для картофеля и других овощей. Вместо забора — живая изгородь из зеленых елок высотой более двух метров. С одной стороны участка было болото. Прежний учитель был родом из деревни Ленино (бывшая Романово) Слуцкого района, фамилия его Шарупич. Мы с ним встречались уже после войны, но он уже почти ничего не помнил из тех лет, а совсем недавно я узнал, что он умер несколько лет назад.
Шарупич со своими учениками за несколько лет прокопал на болоте три параллельные канавы, а одну перпендикулярно им — провел своеобразную мелиорацию. В этих канавах он развел рыб, вьюнов. Берега канав уже заросли березами, кустами ракиты, лозы. На песчаном участке рядом с болотом был питомник, где выращивали саженцы яблонь и груш разных сортов. Около забора рос малинник. На пришкольном участке ученики проводили опыты с разными растениями, а чуть дальше находился участок земли под огород семьи учителя, где мы сажали ячмень, картошку и другие овощи. Над погребом росли две большие сливы-венгерки. Нам нравился и наш дом, и участок.
В деревне Заельное мы жили с 1930 по 1936 год. Здесь я сдал экзамены за четыре класса и в пятый класс ходил вместе со всеми ребятами в Яменскую неполную среднюю школу, которую мне так и не удалось окончить.
Что запомнилось из этого периода моей жизни? Во-первых, трудности с посещением занятий в Яменске. Надо было ежедневно утром и вечером топать пешком по пять километров в одну сторону. Это если идти прямее через кладки по болоту, а если на деревню Переспа, по проселочной дороге, то будет километров около семи. Сложность была еще и в том, что весной и осенью в распутицу болото покрывалось водой, кладки не были укреплены и вертелись при каждом шаге, нередко приходилось падать в болотную грязь, естественно, в таких случаях было уже не до занятий. Возвращаешься домой, сушишься, переодеваешься, опаздывать на занятия не хотелось, да и не имело смысла приходить к концу учебного дня, приходилось пропускать. Помню в Яменскую школу со мной ходили Николай Кунтыш (работал после войны в местном колхозе), Николай Уласовец (живет в Уречье), Лариса Радцевич и многие другие.
В Яменской школе в те годы было организовано горячее питание учащихся 22. Во время большой перемены ребята стремились быстрее попасть в столовую. Там дежурными учениками уже были накрыты столы. Обычно на столах стояли миски с картофелем и шкварками (кусочками поджаренного сала), иногда даже давали добавку. За чей счет питались ребята в школе, я не знаю, но все очень одобряли это начинание. Ведь каждый из нас ходил в школу с полотняной сумкой, куда кроме книжек и тетрадей мать складывала хлеб с салом, колбасой или маслом, чтобы можно было перекусить, пока вернешься из школы домой. А тут горячая пища в школе. Удобно и полезно!
Читать дальше
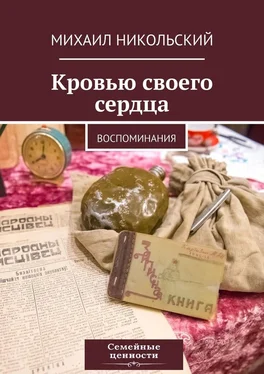
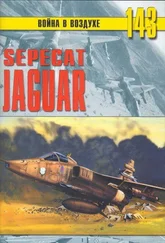
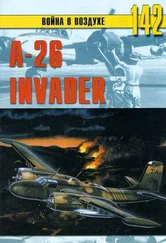
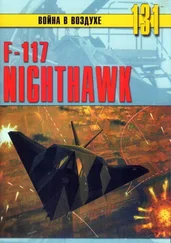
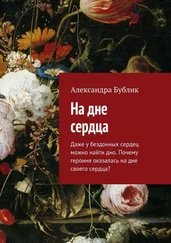
![Диана Гэблдон - Написано кровью моего сердца. Книга 2. Кровь от крови моей [litres]](/books/413492/diana-gebldon-napisano-krovyu-moego-serdca-kniga-thumb.webp)