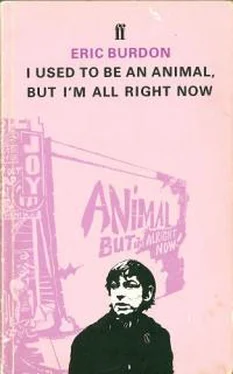Во время первого нашего концерта в Парамаунте нам и в голову не могло прийти, что их старая сцена способна автоматически уходить вниз. Так было принято прежде, так оканчивались выступления старых команд во времена их расцвета — оркестры просто опускали вниз. Но с такими рок–н–ролльными группами, вроде нас, это не сработало. Мы это поняли, когда во время исполнения последнего номера, нас начали опускать вниз. Публика, вскочив со своих мест, бросилась через барьер к нам. И дождём человеческих тел обрушилась на сцену, кроша усилители, растаскивая по частям ударную установку и разрушая оставшееся сценическое оборудование. Надолго запомнился нам этот урок — никаких старомодных приколов, оставшихся от больших джаз–бандов.
Бобу Левину стоило больших усилий восстановить всё. И когда Малыш Ричард сменил нас, он почувствовал, и вполне справедливо, приближение сердечного приступа, так как оставалось ему всего двадцать минут сценического времени. Двадцать минут, чтобы ввести публику в состояние полного исступления. И он проделал это, но я не могу воспроизвести здесь всё, сказанное в его адрес Бобом Левиным, что если бы ему было предоставлено больше времени, всё шоу целиком пришлось бы закрыть — городским властям ущерб нанесённый театру обошёлся в десять тысяч долларов. Но это мелочь в сравнении с тем, как выкладывался Малыш Ричард. Мне пришлось часто видеть его выходящим со сцены. С него буквально градом лился пот, когда он входил в лифт, чтобы подняться в свою уборную, встречаемый прямо в лифте своим костюмером с раскрытым огромным махровым полотенцем, в другом углу лифта ждал его чёрный коп, держа наготове зажжённую сигарету. Он проводил за кулисами, всё оставшееся время, сопровождаемый повсюду своей охраной. Малыш Ричард радовался как ребёнок произведёнными его публикой разрушениям.
— Отличное шоу, Ричард, — сказал как–то раз я, — отличное шоу, потрясающий материал, ты действительно сделал их всех.
Не успели двери лифта закрыться, вошёл Боб Левин.
— Ричард, я уже тебя предупреждал, и не собираюсь повторять ещё раз, если ты задерживаешь своё выступление хоть на десять минут, всё шоу сбивается на целых двадцать, и ты лишаешь времени остальных ребят, ты сокращаешь время выступления и Animals. Ещё одна такая выходка и ты свободен.
Малыш Ричард, видя, что в лифте вместе с ним находится один из зверей и является невольным свидетелем слов Боба, вспылил и, сорвав с головы парик и закатив глаза, взвизгнул пронзительным, старушечьим голосом:
— Слушай, ты, Мазерфакер! Я из кожи вон лезу, чтобы спасти твоё чёртово шоу. Побереги лучше свою задницу!
Боб Левин, набросившись на него, вцепляется Ричарду в загривок, тот в свою очередь попытается увернуться и наскочить на Боба, но тут решает вмешаться коп, до этого стоящий как статуя в углу лифта. Ни один мускул не дрогнул на его лице, строго посмотрев на Ричарда, он глубоким грудным голосом, который мог родиться только из под фуражки нью–йоркского чёрного полицейского, произносит:
— Эй, парень, если ты не заткнёшься сейчас же, я сделаю дырку 38–го калибра прямо между твоих глаз.
Малыш Ричард тут же затих, и не проронил ни слова, пока лифт поднимался до шестнадцатого этажа, на котором находилась его артистическая уборная.
В Парамаунте мы играли не счесть сколько недель. Нам казалось, что мы там уже бесконечность, мы стали чуть ли ни частью Тайм–сквер, неотъемлемой достопримечательностью самого сердца Нью—Йорка. Нам понравилось эта площадь. Мы полюбили этот город. Полюбили нью–йоркцев. Полюбили эту духовную столицу Америки.
Когда, наконец, кончился наш марафон, мы не уехали, мы остались в Нью—Йорке и продолжили наши выступления в других районах Нью—Йорка и пригородах. Везде, где бы мы ни бывали, всюду я бы хотел остаться, стать частью этой жизни, больших распродаж, толкотни и суеты, джаз- и стрип–клубов, шоу и бурлесков, чудиков и гомиков, сутенёров и дешёвых танцовщиц, винных нор и копов, патрулирующих свои районы — как мне нравился запах всего этого!
Мы переехали в более дешёвую гостиницу, Горхем, где жили, работая не только в районе Нью—Йорка, но и в Бостоне, и в Мериленде и в Южном Вашингтоне, но всегда возвращались на своих Кадиллаках обратно в Нью—Йорк. Не счесть чудесных рассветов, встреченных нами по пути из Манхаттана, развалившись на широких сиденьях нашего лимузина.
Наш шофёр оказался замечательным парнем, и мы все его сильно полюбили. Звали его Джо Тигр. Итальянец. Стопроцентный нью–йоркский итальянец. Юная копия Виктора Матюра, в своей лучшей роли, безупречно одетый, белоснежная сорочка, чёрный галстук–шнурок, шёлковый костюм, остроносые туфли, а в дождливое время неизменный макинтош. Мы колесили с ним из города в город, вдоль и поперёк изъездили весь штат, с концерта на концерт, большей частью по колледжам и университетским городкам — в любую погоду. Сперва мы вели себя очень сдержано. Нам нестерпимо хотелось запалить наши козьи ножки, но мы не знали, не были вполне уверены, как воспримет он наши действия.
Читать дальше