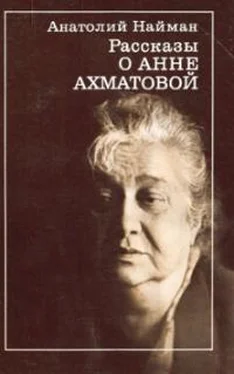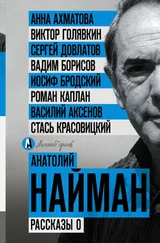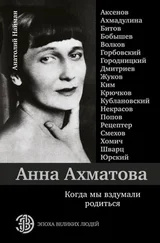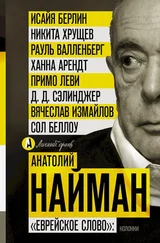Что–то отзывалось 10‑ми годами, что–то 30‑ми. Уходя от нее после одного из первых посещений, я надевал в прихожей пальто, и она помогла мне попасть в рукав — смутившись, я почти выдернул его из ее руки, пробормотал: «Ну что вы!» Она ответила: «Академик Павлов стал подавать пальто уходившему от него аспиранту. Тот тоже вырвал: вы! мне! как можно? Павлов сказал: „Поверьте, молодой человек, у меня нет никаких оснований к вам подольщаться"». И еще, в связи с уходами вообще: «Мандельштам говорил, что самый страшный в мире просчет — это выражение глаз, которое сменяет улыбку на лице хозяина на долю мгновения раньше, чем выходящий за дверь гость перестал на него смотреть». А уже в разговоре о просчетах, действиях не вовремя, о доле мгновения и тому подобном рассказала о таком эпизоде. Когда Гумилев был в Африке, она почти безвыходно сидела дома и лишь однажды заночевала у подруги. В эту ночь он вернулся. Она, приехав наутро и увидев его, заговорила, захваченная врасплох, что надо же такому случиться, первый раз за несколько месяцев спала не дома — и именно сегодня. Кажется, при этом присутствовал ее отец, и не то он, не то муж обронил, когда она замолчала: «Вот так все вы, бабы, и попадаетесь!»
После визита к ней поэта Сосноры рассказала: «Читал стихи про то, кто как пьет. Страшные, абсолютно нецензурные, будут нравиться. Тайны в них нет. Спросил, знаю ли я, что поют „Сероглазого короля". Я ответила: „Боже, как устарело! Еще в сорок седьмом пели: „Слава тебе, безысходная боль, отрекся от трона румынский король"».
Любила по ходу разговора сослаться на Мандельштама, привести то или другое его бонмо. Из недатируемых — «Воевать поляки не умеют — но бунтова–ать!..», несколько цинично комментирующее его же стихи «Поляки! я не вижу смысла в безумном подвиге стрелков». Из датируемых — об Абраме Эфросе: когда в Москву приехал Андре Жид, Эфросу предложили или поручили сопровождать знаменитого писателя; вернувшись во Францию, Жид написал о Советском Союзе не то, чего здесь от него ждали, и Эфроса сослали, но «времена были еще вегетарианские», он легко отделался, попал в Ростов Великий, сравнительно недалеко, на что Мандельштам сказал: «Это не Ростов — великий, это Абрам — великий».
Когда в журнале «Юность» намечалась публикация нескольких моих стихотворений и число их по мере продвижения по редакционным инстанциям на каждом этапе уменьшалось вдвое–втрое, дошло до одного, но и оно было в последнюю минуту выброшено, она сказала: «Я все это проходила с Мандельштамом. Дайте пятнадцать, чтобы было из чего выбрать восемь. Из восьми в трех главный нашел аллюзии, два несвоевременных, три печатаем. Вернее, не три, а два, из–за недостатка места. И на всякий случай принести еще что–нибудь на замену… Это единственное иногда прорывалось». Когда ее стихи напечатали в «Литературной России», или в «Литературе и жизни», как она прежде называлась, то «передовая интеллигенция» в придаточных предложениях давала ей понять, что напрасно она согласилась на публикацию в этой реакционной по сравнению с «Литературной» газете и тем сыграла на руку противникам прогресса. Она раздраженно сказала после одного такого разговора: «Не печатают везде одинаково. Зачем я буду выискивать микроскопическую разницу, когда печатают?»
Ее не обманывало внешнее сходство: «Когда начался нэп, все стало выглядеть, как раньше, — рестораны, лихачи, красотки в мехах и бриллиантах. Но все это было «как»: притворялось прежним, подделывалось. Прежнее ушло бесповоротно, дух, люди, — новые только подражали им. Разница была такая же, как между обэриутами и нами».
«Почему все так сокрушаются о судьбе МХАТа! Я не согласна, — говорила она, когда этот театр как театр, тем более как МХАТ, умирал. — У чего было начало, должен быть конец. Это же не «Комеди Франсез» или наш Малый — сто лет играет Островского и еще сто будет играть… Открытие Станиславского заключалось в том, что он объяснил, как надо ставить Чехова. Он понял, что это драматургия новая и ей нужен театр с новыми интонациями и со всеми этими знаменитыми паузами. И после грандиозного провала в Александринке он заставил публику валом валить к нему на «Чайку». Я помню, что не побывать в Художественном считалось в то время дурным тоном, и учителя и врачи из провинции специально приезжали в Москву, чтобы его увидеть. И впоследствии все, что было похоже или могло быть похоже на Чехова, становилось удачей театра, а все остальное неудачей. А война мышей и лягушек разыгралась оттого, что одни считали систему Станиславского чем–то вроде безотказной чудотворной иконы, а другие не могли им этого простить. И все. Тогда было начало, теперь — конец».
Читать дальше