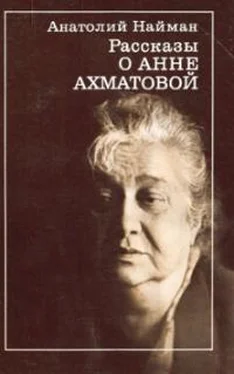Среди нескольких десятков портретов Ахматовой альтмановский был на особом счету, хотя тышлеровский и Тырсы ей нравились больше. Может быть, потому, что Альтман писал ее в счастливые дни ее жизни, или сами сеансы проходили в особой интимно–дружеской атмосфере и с ними было связано что–то, что потом приятно вспоминать, или потому, что это был первый «знаменитый» ее портрет. Про Альтмана она рассказывала, что после частых встреч в 10‑е годы он пропал почти на тридцать лет, потом вдруг позвонил по телефону: «Анна Андреевна, вы сейчас заняты?» — «Нет». — «Так я зайду?» — «Да». И зашел, как будто так и надо, и мы заговорили непринужденно, словно виделись вчера. А когда он меня писал, в студию иногда поднимался один иностранец, смотрел на картину и говорил: „Это–будет–большой—змъязь.'"» Она изредка повторяла этот пифийский приговор, но никогда не объясняла значения таинственного слова: я считал его производным от «смех», чем–то вроде ставшим существительным «смеясь», в то же время передающим и грандиозность вещи, события. Фраза оказалась более или менее универсальной, подходила почти ко всему случающемуся вокруг, по крайней мере вокруг Ахматовой. «Это будет большой змъязь» — о поездке в Англию за мантией, о суде над Бродским, о намерении перелицевать пальто, о выходе за границей «Реквиема»,..
Подобных изречений, средних между каламбуром и пророчеством, было несколько. В одном из писем в больницу она упоминает о болезни, которую я годом раньше «проходил без врача». Это случилось в конце лета, и она, узнав, «командировала» ко мне из Ленинграда Бродского, как вскоре меня к Ольшевской. С ним она передала свое новое стихотворение, его рукой переписанное и ее подписью заверенное, «Тринадцать строчек», которых, однако, как нарочно, оказалось двенадцать, потому что он одну по невнимательности пропустил, а она не заметила. В первом же разговоре об этих стихах я стал возражать против «предстояло»: «И даже я, кому убийцей быть божественного слова предстояло», — потому что если предстояло, то я и ты в стихотворении не равноправны, герой находится во власти героини и лишь' играет роль участника драмы, а не участвует в ней полноценно, С доводами она соглашалась, но стихи защищала — мягко, главным образом тем, что «зато хорошо получилось». Через год или полтора, после сходного, только более резкого спора об одном четверостишии из «Пролога», она вэяла ластик и стерла в тетрадке написанные карандашом строчки. Но в тот раз она, засмеявшись, сказала: «Вы напомнили мне Колю.
Он говорил, что вся моя поэзия — в украинской песенке;
Сама же наливала.
Ой–ей–ей,
Сама же выпивала.
Ой, боже мой!»
И тотчас продолжила: «Зато мы, когда он вернулся из Абиссинии, ему пели: «Где же тебя черти носили? Мы бы тебя дома женили!» Тоже хорошо, хоть и не так точно».
Ее острый слух («собачий», «как у борзой», если использовать ее замечания о других) вылавливал в обыденной беседе, в радиопередаче, в прочитанном ей стихотворении несколько слов, и эти слова, произнесенные Ахматовой, выделенные, обособленные, обретали новый смысл, вид, вес. «„Я сюда проберусь еще тенью", — выхватила она одну мою строчку. — Годится на эпиграф. И ударение неправильное — хорошая строчка». В другой раз, когда я читал только что переизданного Светония и наткнулся на чудное замечание: «В хулителях у Вергилия не было недостатка», — она отозвалась: «Первоклассный эпиграф». А по поводу самой книги однажды сказала: «Светония, Плутарха, Тацита и далее по списку читать во всяком случае полезно, Что–то остается на всю жизнь. Знаю по себе — кого–то помню с гимназии, кого–то с «великой бессонницы», когда я прочла пропасть книг… «Солдатские цезари» симпатичнее предыдущих — кроме, может быть, Кая Юлия. «Божественному Августу» не прощаю ссылки Овидия. Пусть дело темное — все равно: опять царь погубил поэта». И еще: «Насколько все понятно про Рим, настолько ничего не понятно про Афины», — то есть римская цивилизация — основа и часть вообще европейской, а государство, культура, жизнь Древней Греции не похожи ни на что.
В очередной пушкинский юбилей (кажется, сто двадцать пять лет со дня смерти) в «Литературной газете» была напечатана заметка о том, что, судя по отскоку пули, Дантес, вероятно, стрелялся в кольчуге. «Кто написал?» — в ярости почти рявкнула она. Я сказал, что, кажется, Гессен. «Это Гессен стрелялся бы в кольчуге! — как будто тоже выстрелила она. — Вам известно, как я люблю Дантеса, но он был кавалергард и сын посланника, человек света, ему мысль такая не могла прийти в голову: для того, кто вышел драться, предохраняя себя таким образом, смерть была бы избавлением! А вообще это из типичных юбилейных открытий. Раз в десять — двадцать лет обнаруживают совершенно новые неопровержимые доказательства того, что Пушкина убил Дантес, Моцарта отравил Сальери, «Слово о полку» написано Бояном, но что «Илиаду» и «Одиссею» сочинил не Гомер, а другой старик, тоже слепой».
Читать дальше