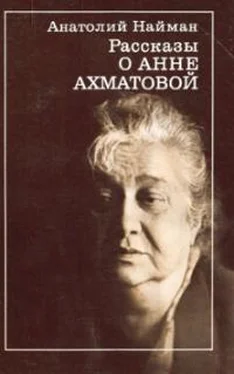По прошествии лет и тот и другой план — и существо и повеление — встроились в перспективу, вмещающую в себя большее пространство, но зато и сужающуюся, уменьшающую непосредственное впечатление от вещей. Коллекционирование преклонения и даже одних и тех же комплиментов начинает казаться теперь не проявлением или данью эгоистичности, а скорее, наоборот, постоянно тревожатцей памятью о необходимости отдать «жизнь свою за друти своя». Истину о том, что ученик не больше своего учителя, она распространяла и на себя. Она знала, что уступает Вячеславу Иванову в образованности, Недоброво — в тонкости, Гумилеву — в уверенности (имена и качества здесь взяты почти наугад), но она превосходила их талантом, а время выставило требование таланта впереди всех прочих. У разных эпох в цене разные вещи, и тут нужда была не в обширных знаниях, философских системах, религиозно–нравственных учениях и т. д., но в первую очередь в таланте, в таланте и в дерзком его проявлении, а у нее был и талант и необходимая смелость. Таким образом, ей выпало и удалось высказаться во всеуслышание за тех, от кого она чему–то научилась и кто по той или иной причине не высказался сам, за тех, на чьих черновиках она писала. Это им всем по прихотливо составленному списку: от своих матери и отца, от Ольги Глебовой, от Лозинского до Данте и Гомера, через себя, — собирала она славу.
Однако воспринятые ею от и через живых учителей знания, принципы, критерии в сочетании с ее мощным и гибким умом, а главное, ее здравый смысл, размером и всеохватностыо не уступавший таланту, ставили границы той свободе, неожиданности, непредсказуемости, которые неубедительно, но всем попятно зовутся гениальностью. «Он награжден каким–то вечным детством», — сказала она об этом качестве пастерна- ковского дарования с восхищением и одновременно снисходительно, не без тонкого сарказма: дескать, сколько можно? Его стихи выкипали через края выстроенной по- акмеистически вселенной: он вызывающе заявлял, что не разбиравшаяся в Пушкине Гончарова — жена лучшая, чем Щеголев и позднейшие пушкинисты, что Шекспир долго не мог найти нужного слова и потому затягивал сцены; его безвкусицы вроде «О, ссадины вкруг женских шей» или «Хмеля», которых она ему не прощала, были так же ярки, как его несомненные удачи, — словом, «он ставил себя над искусством», как записала Чуковская ее слова. Она говорила, что у Мандельштама «черствые лестницы» («.„с черствых лестниц, с площадей… круг Флоренции своей Алигьери пел…») законны, оправданы дантовским «хлебом чужим», а «простоволосая трава» — уже запрещенный прием.
Когда вышла книжечка переводов Рильке, сделанных хорошо ей знакомым и уважаемым ею человеком, она огорченно сказала, что все на месте, а великого поэта не получилось. Мы заговорили о «Реквиеме по одной женщине», в книжку не вошедшем. Я сказал, что это гениальные стихи: там и смерть героини, и она при жизни, и она воскресшая, и поэт, который просит ее не приходить… «Вот это и ужасно, — тотчас ответила Ахматова. — Это обязательное свойство гения… Она после смерти приходит к нему, а он: «Нет, простите, пожалуйста, не надо». Или Толстой в «Отце Сергии» — не замечает, что он заставляет женщину делать. Потом что–то отрубает или не отрубает — как будто мне после того, что было, это нужно. А Толстому важно только то, что там, вдали… А Достоевский! Митя Карамазов ведь настоящий убийца: он так ударяет Григория, что тот лежит с раскроенным черепом. Но гении — потому что они гении — делают так, что никто этого не замечает…» Я сказал, что если оставить лесть в стороне, то Ахматова не гений, а некий антигений… Она выслушала это без удовольствия, буркнула: «Не знаю, не знаю». Я объяснил, что употребил это определение как позитивное, по аналогии, например, с «антипротоном». «Это не означает ничего обидного, тем более дурного…» Она закончила с юмором, примирительно: «А я почти уверена, что означает, но спросить не у кого».
Надо ли говорить, что эти границы ни в самой малой мере не мешали искусству? Они пролегали внутри его, ставили ему внутренние пределы, а ни от чего не огораживали. Она говорила, что у Достоевского, если говорить строго, нет ни одного, собственно, романа, кроме «Преступления и наказания»: в остальных «главные события происходят до начала, где–то в Швейцарии, а тут уже все летит вверх тормашками, читатель задыхается, все ужасно…». И сразу прибавила: «Но вообще у настоящего прозаика — адская кухня. Они успевают написать за свою жизнь в пять раз больше того, что потом входит в полное собрание сочинений. Поэтому я не верю, что можно написать большой роман и после ничего, как Шолохов». (Может быть, к этой реплике ее подтолкнули «Дневники» Кафки, которые она в то время читала; в них под 17 декабря 1910 года запись: «То, что я так много забросил и повычеркивал, — а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, — тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора, в пять раз больше того, что я вообще когда–либо написал, и уже одной массой своей она прямо из–под пера утаскивает к себе все, что я пишу».) Она объясняла, что пушкинистика в ближайшее время вряд ли добьется сколько–нибудь значительных результатов, потому что пушкинисту, кроме чутья, таланта, трудолюбия и других обязательных для ученого качеств, необходимо еще и хорошее знание французского, английского, истории- эпохи, а такое сочетание сейчас редко. Она требовала от писателя образованности Томаса Манна и приводила в пример «Волшебную гору», правда с оговоркой, что рассуждения о времени, уступают уровню всей книги, которую она любила, как казалось, специфически лично, может быть, из–за описания быта туберкулезного санатория: я читал ее, лежа в больнице, и она сказала: «А это и есть больничное чтение».
Читать дальше