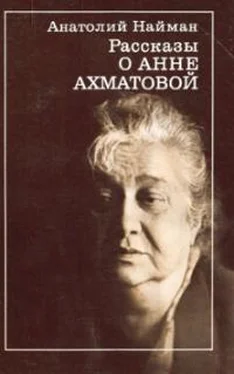В другой раз она вспомнила передававшуюся из уст в уста в 10‑х годах, если не в конце 900‑х, столичную историю с известной театральной актрисой, возлюбленной художника Коровина. Он был у нее, когда без предупреждения явилась портниха Ламанова. «А это как если бы сейчас к вам домой приехал сам… — она назвала имя Диора или какого–то другого парижского модного дома, — и даже больше: она была такая одна. Тут уже было не до Коровина. Хозяйка выбежала к ней, что–то на себя накинув, и объяснила это тем, что как раз в ту минуту ее осматривает приехавший с визитом врач. Примерка очень затянулась, Коровину надоело ждать, и он неожиданно вышел в кое–как застегнутой рубашке и с незавязанными шнурками. Актриса находчиво воскликнула: „Доктор, что за шутки!"» И то ли незадолго до, то ли вскоре после этого рассказа Ахматова спросила меня, слышал ли я историю про пудреницу. В конце 50‑х — начале 60‑х годов московская светская дама, писательница, приходила в гости, предпочитая многолюдные, доставала из сумочки пудреницу, пудрилась и оставляла ее открытой на середине стола. Рассказчики варьировали детали: не оставляла открытой, зато каждую минуту открывала и пудрилась; не на середине стола, а, наоборот, куда–то прятала. В конце концов кто–то обратил на это внимание, заподозрил неладное, как бы случайно сбросил пудреницу на пол–оказалось, что в ней миниатюрный магнитофон. «Так вот, знаете, кто эта дама?» — спросила Ахматова, предвкушая эффект, и произнесла имя одной из своих знакомых, регулярно бывавшей у нее и пусть неискренне, но привечаемой ею. Это было так невероятно, что даже неинтересно, и впоследствии я как бы и помнил и в то же время как бы не знал этого. Интересно было только напрашивающееся сравнение того, что становилось шумной историей тогда и что теперь.
В одну из сравнительно ранних наших встреч я передал ей содержание монолога, который накануне выслушал от общего знакомого. Он утверждал, что уже созданного искусством вполне достаточно для нынешних нужд; что XX век не предложил ничего по–настоящему нового и если в начале он еще снимал пенку с предшествующих, то теперь и этого нет в помине; что в истории такое уже бывало, Рим долгое время пользовался искусством Греции, и множество других известных примеров; что в такой точке зрения нет ничего разрушительного, ибо на смену искусству приходит свободная, вне его рамок жизнь, скажем вопль живой кошки в симфонии конкретной музыки; и что если сейчас еще что–то есть, то это в лучшем случае один–единственный кадр в фильме, одна–единственная строчка в поэме. «И это не снобизм, — сказал я, — вы же знаете: он человек весьма просвещенный, все превзошедший…» «Да–да: невзрачный, но очень талантливый, как про таких говорят, — вступила она. — Именно потому, что просвещенный, это и есть снобизм. Помню, в десятых годах один просвещеннейший молодой человек, вернувшись из–за границы, утверждал, что нельзя сказать, что в Лувре совсем уже нечего смотреть: он нашел там одну штучку. Нет, не живопись — скульптура, и даже не скульптура, а кусок скульптуры — из раскопок; словом, бюст без головы, без рук — но какой камень!»
Как будто из бездонного мешка, набитого ее прошлым, она доставала нужные ей или собеседнику факты, эпизоды, фразы, при надобности снабжаемые академически пунктуальным комментарием дат, мест и обстоятельств, а чаще без ссылок на происхождение, оторванно от времени или упоминая о нем приблизительно или намеренно темно. Однажды порознь приглашенные к обеду общей знакомой, мы ехали из разных мест, и я, опоздав на четверть часа, не нашел ничего лучшего как начать в извинение объяснять, что принимал ванну, когда отключили горячую воду, и так далее, что было правдой. Ахматова, уже сидя за столом, смотрела на меня ледяным взглядом и, едва я кончил, процедила сквозь зубы: «Гигиена и нравственность», — лозунг или какое–то название, словом, когда–то замеченный ею штамп времени. В другой же раз, когда я получил неожиданный гонорар и хотел пригласить в ресторан всю ордынскую компанию, она посоветовала вместо этого купить ведро пива и ведро раков и прямо с двумя ведрами в руках явиться к Ардовым; и когда я так и сделал, купив ведра в хозтоварах, раков на Сретенке, пиво в Кадашевских банях, и, догрызая последние клешни и дочерпывая со дна остатки пива после еще одной или более ходок в те же бани, все шумно отдали должное замыслу и его осуществлению, Ахматова, с таким же красным и отяжелевшим, как у остальных, лицом, но без их горячности и многоглаголания, произнесла: «Дай Бог на Пасху, как говорил солдат нашей няни».
Читать дальше