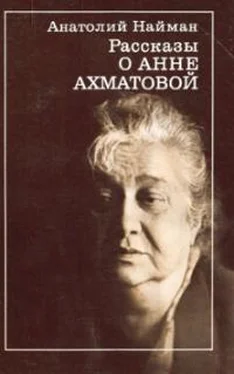Она шутила щедро, вызывая улыбку или смех неожиданностью, контрастностью, парадоксальностью, но еще больше — точностью своих замечаний и никогда — абсурдностью, в те годы входившей в моду. Она шутила, если требовалось — изысканно, иногда и эзотерично; если требовалось — грубо, вульгарно; бывали шутки возвышенные, чаще — на уровне партнера. Но никогда она не участвовала в своей шутке целиком, не отдавалась ей, не «добивала» шутку, видя, что она не доходит fа всегда немного наблюдала за ней и за собой со стороны — подобно шуту–профессионалу, в разгар поднятого им веселья помнящему о высшем шутовстве. Она буквально расхохоталась однажды на райкинскую репризу: «Потом меня перебросили на парфюмерную фабрику, и я стал выпускать духи „Вот солдаты идут"». И с чувством и как о чем–то немаловажном и не случайном рассказывала позднее, что Райкин, во время ее оксфордского чествования находившийся в Англии, не то приехал поздравить, не то дал телеграмму; она была признательна за внимание, однако рассказ строился так, что то, что он знаменитость, отступало на дальний план, а на передний выходило, что вот — королевство… королева… и как бы королевский шут„. И тут же, снижая сказанное: «А Вознесенский — тоже откуда–то из недр Англии — прислал по этому случаю свою книжку: „Многоуважаемой…" — и так далее, а потом сверху еще „и дорогой" — совершенный уже Карамазов: „и цыпленочку"».
Подобное отношение проявлялось у нее и ко всему вообще бытовому: между «бытом», «делами», с одной стороны, и «величием замысла» — с другой, существовало равновесие, подвижное, хрупкое, стрелка которого иногда смещалась в направлении «быта», и тогда жизнь становилась «трудной и мутной» и бывало «очень скучно» tа иногда к «величию», и тогда становилась ясной, сама себя выстраивая из множества разрозненных наблюдений, «книга о Пушкине», и все — от пронзительного скрипа колодезного ворота до стука в дверь, на который она не отозвалась, потому что недослышала, — оказывалось стихами, «Полночными», из «Пролога» или из много лет назад начатых циклов и книг. .
Запись об оплате путевки в Дом творчества и стихи о «заповеднейшем кедре» под его окнами соседствовали в ее дневнике и уравновешивали друг друга в ее реальной жизни так же, как намеренно безынтонационное проговаривание «Камергера Деларю», исключительно для развлечения гостей: «Тут в левый бок ему кинжал ужасный злодей вогнал…» — с отчетливо выделенной ею в ровной беседе репликой об особом значении в ее поэзии стихотворения «Углем наметил на левом боку место, куда стрелять». Точно так же естественно и свободно были сбалансированы и дополняли друг друга в ее передаче подлинная цена того или другого человека или произведения искусства и их официальная репутация. Она слишком хорошо знала невидимые для публики пружины, действовавшие в создании чьей–то — и своей собственной — славы или бесславия, чтобы обольщаться по поводу присуждения какого–то звания или премии. Когда я, развернув газету (спросил, главным образом риторически, за что это такому–то дали Ленинскую премию по литературе, она буркнула судейское: «По совокупности», — а когда я с молодым задором заметил, что «все–таки это безобразие», она довольно резко меня оборвала: «Стыдитесь — их премия, сами себе и дают». И если свою итальянскую «Этну–Таормину» и свою оксфордскую «шапочку–с–кисточкой» сна подавала достаточно серьезно, то в этом было куда меньше тщеславия и прочих извиним{>1Х слабостей, чем убежденности в том, что не ей, а другим, верящим в справедливость людям необходимо, чтобы «Ахматовой было воздано по заслугам». «Когда после войны командование союзников обменивалось приемами, — рассказывала она, — и Жуков верхом въехал в западную зону Берлина, то Монтгомери и Эйзенхауэр, пешие, взяли его лошадь под уздцы и повели по улице. Это был его конец, потому что Сталин воображал, что он въедет на белом коне и те пойдут по бокам от него». Нобелев- ка в ее глазах была этим самым белым конем истинного победителя в изнурительной полувековой войне.
Ахматова довела до нашего времени свое, эстетику и лицо которого в значительной мере определяла. Понятие «свое время» сложным образом суммирует более пятидесяти лет, временное пространство между 10‑ми и 60‑ми годами, которое она прошила, простегала траекторией своей судьбы и строчками своих стихов. Точно такие же слова, с поправкой на содержание биографии и поэзии, можно в полной мере отнести и к Пастернаку. Его смерть в 1960 году и ее в 1966‑м завершили историю русской культуры первой половины XX века: насколько я мог видеть, при их жизни нельзя было не оглянуться на них; нельзя было сказать и поступить так, как стало возможно уже через месяц–два после ахматовских похорон.
Читать дальше