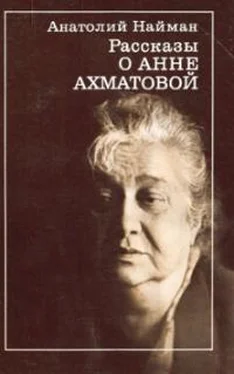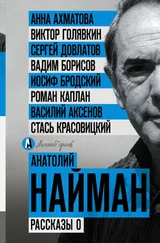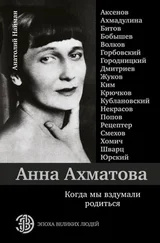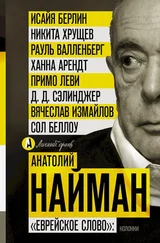Среди «катавших» Ахматову ленинградцев особое место занимала Ольга Александровна Ладыженская, известная математичка, которую Ахматова рекомендовала гостям случайным как Софью Ковалевскую наших дней, а близким — пародируя нескладную грамматическую формулу «женщина–математик» как «собаку–математика». Ей посвящено стихотворение «В Выборге», возникшее в результате забавного стечения обстоятельств. Обычно маршрут автомобильной прогулки пролегал вдоль финского залива, не далее Черной речки, где была могила Леонида Андреева, — именно одну из таких прогулок воспела Ахматова в «Земля хотя и не родная». Но чаще она просила остановить машину между шестидесятым и семидесятым километром Приморского шоссе, где был дикий, усеянный огромными гранитными валунами, безлюдный берег… В Выборг, однако, ее свозила не Ладыженская. Меня навестил московский приятель, который проезжал на автомобиле через Ленинград. Я предложил Ахматовой прокатиться. Мы выбрали красивую дорогу, соединявшую Приморское и Выборгское шоссе, и не торопясь ехали по ней. Внезапно кому–то в голову пришла мысль отправиться в Выборг. Она согласилась, и началась головоломная гонка, потому что к ней вскоре должен был прийти гость, а до Выборга было больше ста двадцати километров. Со скоростью сто и быстрее мы примчались в Выборг, покрутились возле парка и причала, не выходя из машины, съели по эскимо и так же стремительно вернулись. Она сказала только: «Средней силы населенный пункт…» Через несколько дней Ладыженская, навестив Ахматову, рассказала, что она съездила в Выборг, как там было прекрасно и какое впечатление на нее произвел гранитный монолит, ступенями уходящий под воду. Ахматова посмотрела на меня с притворной сокрушенностью и обидой и сообщила гостье, что мы ничего такого там не заметили. Через день, если не на следующий, ею были написаны стихи «Огромная подводная ступень» и так далее, с посвящением Ладыженской.
В последний раз по Москве мы поехали кататься в феврале 1966 года, вскоре после ее выписки из больницы, дней за десять до смерти. Было морозно, садилось солнце. Попросили шофера отвезти нас к Андроникову монастырю. Такси было старое, дребезжало, воняло бензином. Улица, ведущая к монастырю, оказалась закиданной глыбами льда, видимо, недавно сколотого, машину стало трясти. Ахматова поморщилась, взялась рукой за сердце, я велел возвращаться на Ордынку. Она пососала нитроглицерин, шофер стал огибать белую монастырскую стену. Продолжая держаться за грудь, она сказала: «Могучая кладка, на века». А в одну из первых поездок по Москве мы спускались с Большого Каменного моста, и машина поравнялась с тремя страшными темно–серыми многоэтажными домами возле «Ударника». Многие их жильцы были расстреляны в годы террора, «А за то, что люди должны каждый день видеть этот ужас, — сказала Ахматова, — архитектора не надо расстрелять, как вам кажется?»
3 марта 1966 года Ахматова с Ольшевской отправились в домодедовский санаторий под Москвой. Ехали двумя машинами, пригласили медсестру из отделения, где до этого лежала Ахматова. Доехали, несмотря на сравнительно длинную дорогу и поломку в пути, без приступа. Санаторий был для привилегированной публики, с зимним садом, коврами и вышколенным персоналом. К желтому зданию вели широкие ступени полукругом, упиравшиеся в белую колоннаду. Мы медленно по ним поднялись, она огляделась и пробормотала: «Ь'аппёе derniere a Marienbad». «В прошлом году в Мариенбаде» Роб–Грийе была чуть ли не последней книгой, которую она прочла.
В письмах из Италии, так же как в московских, часты упоминания о том, что она спала: «я сонная и отсутствующая», «сны такие темные», «целый день дремала». Конечно же, это объясняется возрастом и состоянием здоровья, но не только этим. В то время ей на глаза попалось… — надо немного отступить: в то время я читал стихи Йетса… — и еще немного: в то время мне подарили книжку Йетса; и в результате соединения этих как будто случайностей ей на глаза попалось — если про стихотворение, прочитанное Ахматовой, вообще можно говорить: попалось — его «When you are old and gray and full of sleep» («Когда ты старый, и седой, и сонный»), которое я тогда же пытался переводить. С тех пор всякая реплика о сонливости стала ссылкой на эти стихи. Но, кроме того, почти всякий сон, по крайней мере думаю, что всякий, о котором она упоминала, был сновидением, и «дремала» в сочетании со «сны такие темные и страшные» больше похоже на «грезила» (английское dream), чем на «поспала». А «то, что в Вильнюсе сказала дочка Трауберга», Наталья Леонидовна, было тогда расхожей темой в кругу молодежи, настроенной связывать свои представления об аде и рае с моралью, в частности с моралью ничего не подозревавших их знакомых и полузнакомых, решая, кто из них ангел, кто демон.
Читать дальше