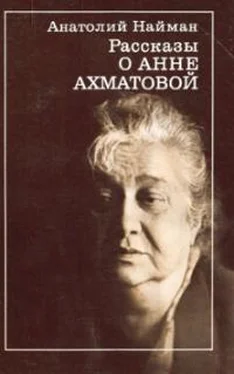Она часто говорила о начале столетия то, что впоследствии записала: «XX век начался осенью 1914 года вместе с войной, так же как XIX начался Венским конгрессом. Календарные даты значения не имеют. Несомненно, символизм — явление XIX века. Наш бунт против символизма совершенно правомерен, потому что мы чувствовали себя людьми XX века и не хотели оставаться в предыдущем…» Ее стихи «Мы на сто лет состарились» не только свидетельство об ужасах первой мировой войны, трагедия которой дала молодым опыт стариков, но и буквальный переход из века в век, то есть вдруг оказалось прожито на век больше. Опоздание на все те же полтора десятилетия отдаляет подлинную середину нашего века от календарной.
Ни ей, ни Пастернаку не требовалось, даже если бы у них было намерение, идти в ногу со временем: ускорение, задаваемое времени истинной поэзией, всегда больше максимального ускорения эпохи, что и делает творчество поэта вневременным. Ожидание чудес от Джека Алтаузена в 20‑х годах было перенесено любителями стихов в 50‑е годы на другие имена, но Ахматова — Пастернак, по словам не любившей шутить критики, «не сумевшие вовремя умереть», простым наличием в списке, пусть и среди тех, кто прижат к обочине, в сочетании с неучастием в гонке портили удовольствие уже от самого ожидания и, в конце концов, сводили объявленные чудеса на нет, в лучшем случае — к трюку. Несмотря на коренную разницу эстетических установок Ахматовой, писавшей так, чтобы потомки «на таинственном склепе чьи–то, вздрогнув, прочли имена», и Пастернака, писавшего так, чтобы в момент чтения строки продолжало быть видно, как сохнут чернила под его рукой, циркуль для измерения масштаба ее «монументальности» и его «моментальности» был растворен столь широко, что оказывался непригоден для оценки величины других, и те, от кого ждали чудес, наглядно проигрывали в сравнении с ними, попросту выпадали из сравнения. После их смерти все резко переменилось: масштабы, метод измерения, наконец, сами циркули. Переменилась атмосфера.
Вечер, конец дня, конец года, конец века предполагают спад активности, замирание, откладывание дел, мыслей и самой жизни на начало следующего — дня, года, века. В конце–начале половинных сроков все это проявляется в более стертом виде, выражено менее остро, но все же ощущается отчетливо. К середине 60‑х годов усталость, накопленная за полвека, усугубленная его катаклизмами и по–новому отяжелевшая после облегчения, полученного от смерти Сталина, дала себя знать в самых разных областях. Силы, которые собирались к началу второй половины столетия, справиться с ней не могли, хотя в свою меру и старались: в частности, поэзия стала уступать место литературе, публицистике, широко — от Евтушенко до Солженицына — понимаемому диссидентству, прозе, а в узколитературном плане — анализу прежде написанных стихов. Но признаки деградации можно было заметить и раньше — в «оттепель» и даже в «расцвет нового интереса к поэзии», как говорила Ахматова в начале 60‑х годов. Исподволь демонстрировать их, делать всем заметными, ненавязчиво, но неоспоримо, удавалось в первую очередь ей самой,
«Стара собака стала», — приговаривала она время от времени, отнюдь не жалуясь и констатируя не только физическую тяжесть прожитых лет, но и невозможность не знать то, что она знала. Она вспоминала запись Вяземского, которую он оставил, прочитав «Войну и мир», то есть уже стариком, о днях его юности и молодости. Он писал, что «покойному императору», так он называл Александра I, многое можно поставить в упрек, но одного качества в нем не было и следа — вульгарности: он был безукоризненно воспитан и не мог, как описывает молодой граф Толстой, бросать деньги в народ. Не то чтобы она была на стороне Вяземского: когда я однажды сказал, что согласен с каждым его словом в оценке пушкинского «Клеветникам России», она сердито бросила: «А я нет. Верно или нет, но тот сказал, что хотел, во всеуслышанье, а этот — в своем дневнике, велика заслуга». И не шпилькой Толстому, которого она деланно свирепо ругала «мусорным стариком» за заведомую неправду в изображении Анны Карениной и вообще за жертвенную приверженность идеям, было ее замечание. Но подобные сопоставления выстраивались, сплошь и рядом без ее желания, в четкие параллели: было — стало. Не брюзжание «было лучше, стало хуже», а: было так — стало не так, а кому что больше нравится — дело вкуса. Она рассказала о жене Стравинского Вере, ослепительной красавице, прозванной петербургскими ценителями красоты Бякой: в эмиграции в Париже она открыла шляпную мастерскую; клиентка примеряла перед зеркалом шляпу и если сомневалась, Бяка надевала эту шляпу на себя и говорила: «Ну как?» — после чего та немедленно убеждалась, что шляпа изумительно красива, и платила деньги. «Она была настоящая красавица, — сказала Ахматова, — это такая редкость. Вот эта грузинка, жена нашего славного поэта, вы ее видели, она ведь безукоризненно красива — но пронеси бог мимо такой красоты».
Читать дальше