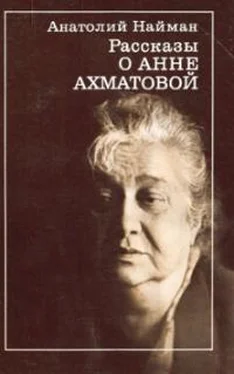Против окна моей палаты рос высокий тополь. За то время, что я там лежал, его набухшие почки приоткрылись, он сделался бледно–зеленым. Он стоял на солнце, а тот, что рос посреди двора на Ордынке, — в тени, он на несколько дней опаздывал, это была такая игра: хвалиться тем, чтб чей тополь успел сделать. Палата была на третьем этаже, а все лестницы с некоторого времени сравнивались по степени трудности подъема с лестницей у Шенгели. А дело было вот какое. Как–то раз я провожал Ахматову после гостей к Шенгели. Когда мы подошли к лифту, он оказался выключен. До квартиры было семь высоких этажей, времени — час ночи. Я стал искать выход: предлагал поймать такси, поехать к тем–то, к тем–то — никто, разумеется, не откажет; найти механика, чтобы исправил лифт… Она сказала, что единственное спасение — немедля начать подниматься. Мы одолевали лестницу больше получаса: какие бы я ни придумывал способы помочь ей, она коротко и категорично их отвергала. Поднималась по обычной своей методе: ставила по очереди обе ноги на каждую ступеньку и на площадке между маршами делала пять–шесть глубоких размеренных вдохов–выдохов, унимая таким образом сердцебиение («Сердце усмиряют правильным дьпсаньем»). Это называлось «дыхание йогов», а Нина Антоновна, имитируя артистку Бирман в роли сиделки в популярном тогда спектакле, определяла такой подъем как «шажок! — отдохнули!». Дважды она садилась на ступени. Войдя в квартиру, попросила хозяйку накапать ей валокордину и перед моим уходом сказала, что теперь она похожа на ту прустовскую бабушку или тетушку, которой расхваливали погоду и воздух на Елисейских полях, соблазняя ее погулять; она соглашалась, намечала для прогулки ближайшее воскресенье, и все знали, что она из дому никогда не выйдет из–за убежденности, что попросту не может этого сделать; однако когда дом загорелся, старуха спустилась по пожарной лестнице — кажется, даже не касаясь перил. Лестница у Шенгели придала ей уверенности и опыта: в Италии во дворец, где ей должны были вручать премию, вела высокая мраморная лестница с крутыми ступенями — по ее словам, она вспомнила то ночное восхождение и не раздумывая двинулась вверх.
«Кома», принесший цветы, — это Вячеслав Всеволодович Иванов, ученый — лингвист и филолог, носивший такое домашнее имя; а «Саша» — это Александр Нилин,
Александр Павлович, ближайший друт «мальчиков Ардовых», уже промелькнувший в одном из предыдущих писем с букетом нарциссов. «Маруся» — Мария Сергеевна Петровых — тоже участвовала в тагоровском предприятии, Карпушкин был ответственный, не то внешний, редактор переводов. Суета, нагнетавшаяся вокруг переводов, казалась необходимой и важной, кто–то противодействовал заключению договора, кто–то проталкивал его; едва переводы вышли, уже нельзя было вспомнить не только, в чем состояло дело, но и почему оно до такой степени всех захватило. И эта тревога и нервность, от которых через короткое время не найти было следов, повторялись потом еще много раз, всегда с одинаковой силой и остротой. Когда у меня начались заурядные неприятности на сценарных курсах и я беспокоился и мрачнел, Ахматова утешала: «Через две недели после их окончания вы навеки забудете, что такое кино» (она ошиблась на несколько дней).
«Ленинградская гостья» Женя Берковская, Евгения Михайловна, одна из тех шестидесятилетних, измученных жизнью, но не предъявляющих к ней никаких претензий, никогда не жалующихся женщин, которых было несколько в окружении Ахматовой, происходила из благополучнейшей петербургской семьи и претерпела все, что за такое происхождение полагалось. В то время она жила по чужим углам, зарабатывала вязанием и перепечаткой рукописей на машинке, в частности и для Ахматовой. Ахматова была с ней неизменно ласкова, поддерживала ее — в первую очередь психологически; Берковская, лишившись ее, осиротела окончательно, как–то сразу обессилела и очень скоро умерла… Как правило, знакомые ленинградцы и москвичи, курсируя между двумя столицами, довозили Ахматовой что–то, забытое в одной из них, почту или, если она задерживалась надолго, одежду по сезону (так сделал, например, упомянутый в записке Владимир Сергеевич Муравьев).
Стихотворение «Тень», посвященное Саломее Андронниковой, о которой перед поездкой в Англию Ахматова написала в дневнике: «Мы не виделись 49 лет, да и не увидимся, она ведь слепая», — было положено на музыку Артуром Лурье, и ноты присланы в Москву. Братья Хайкины — известный дирижер и известный физик — были кузенами Ардова, но «Тень» исполнялась дома ни у того, ни у другого, а у сына физика, женатого на музыкантше. Сохранилась магнитофонная запись того вечера, дважды спетый романс, а затем стихи Ахматовой, которые она с охотой стала после музыки читать.
Читать дальше