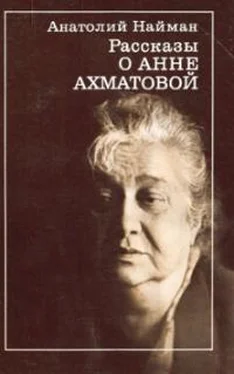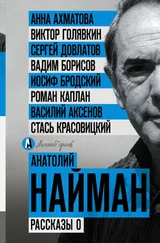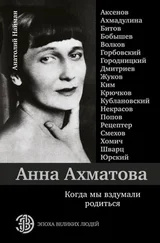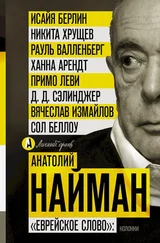Все это происходило в прямом смысле слова на глазах Ахматовой. Я снимал эту случайную комнату уже несколько месяцев, когда Анна Андреевна сообщила мне, что по приглашению Нины Леонтьевны Шенгели переезжает к ней, и попросила помочь при переезде. Мы поехали, и она велела шоферу остановиться — у моего подъезда. После первых мгновений немоты я сказал ей об этом, наступила ее очередь изумиться. Я жил на втором этаже, Шенгели на седьмом.
Вернувшись из милиции, я поднялся к Ахматовой. Она выслушала мой рассказ, помолчала, потом проговорила: «Ионисяном мог оказаться не он, а вы. С той же вероятностью. Так что благодарите судьбу. Выигрышная роль могла достаться и мне: старая опытная наводчица и скупщица краденого. Я, как вы знаете, тоже живу без прописки. Не много ли нас на одну лестницу?» Я не отнесся к происшедшему серьезно и вскоре переехал к друзьям. Она же приняла все, как казалось мне тогда, чересчур близко к сердцу: несколько раз, уже без тени юмора, убеждала меня в том, что я избежал смертельной опасности — настоящей, невыдуманной, — и рассказывала эту историю многим тогдашним своим гостям. Поэтому она и торопила издательство дать мне еще до заключения договора на Леопарди гарантийное письмо на тот случай, если органы охраны порядка возьмутся за меня более решительно, «Ника» — Ника Николаевна Глен — была редактором в Гослитиздате, занималась болгарской литературой, за что Анна Андреевна, нежно и уважительно всегда о ней говорившая, называла ее болгарской королевой. Она пользовалась исключительным доверием Ахматовой, предоставляла, живя вдвоем с матерью, одну из двух маленьких комнат в коммунальной квартире в ее распоряжение, приезжала ухаживать за ней в Комарово и некоторое время до 1963 года исполняла у нее секретарские обязанности. Высокий редакторский профессионализм, литературную одаренность и точное знание специальных предметов она сочетала с настолько незаметным для окружающих проявлением этих своих качеств, что назвать их скромностью было бы преувеличением. В то время в Гослитиздате сошлось несколько редакторов высокого класса, настоящих специалистов, ученых, интеллигентов, Ахматова знала им цену, да и ко всему издательству относилась, в общем, с симпатией. Когда она приходила за гонораром, начинался «малый крестный ход в Тверской губернии»: выходили навстречу знакомые, незнакомые, бухгалтеры, корректоры, заведующие. Со слов Пастернака, она рассказывала, что, когда во время травли из–за «Живаго» он появлялся, также по гонорарным делам, в какой–нибудь из издательских комнат, бедные редакторы зарывались носами в бумаги и шептали оттуда: «Борис Леонидович, мы вас очень любим, мы вас очень любим». Впрочем, редакторы были разные — хотя бы тот, которого по совокупности качеств, внешности и поведения Ахматова беззлобно прозвала младотурком…
В том же 1964 году у меня то ли начинался, то ли кончался роман с театром «Современник». Я написал пьесу, в которой двух главных героев–антагонистов должен был играть один актер, так же как их жен — одна актриса. Про эту пьесу и говорил Ахматовой «очень большие слова» Борис, младший из «мальчиков Ардовых», о ней же, «вглядевшись» в сюжет, написала она в одном из следующих писем: «Все дело в Вашей пьесе». Ей показалось, что пьеса содержит недолжные аллюзии: самый замысел двойничества был ею истолкован как попытка замаскировать ситуацию, имевшую отношение к ней, вернее к тому, что она тогда писала. Нечаянно я дал к этому повод, введя в действие лицо, имевшее слишком явное сходство с человеком из ее окружения. Последовало неприятное объяснение, размолвка, потом примирение.
«Лида Ч.» — Лидия Корнеевна Чуковская — с исчерпывающей полнотой передала содержание и подробности своих многолетних отношений с Ахматовой в трехтомных «Записках»: ее имя отныне навсегда связано с ахматовским. Они были люди разного времени, разного склада, разных вкусов и идей — теперь, когда история делает их чуть ли не ровесницами, это следует подчеркнуть. Ахматова, как мне казалось, в полной мере оценила не только общепризнанные ее достоинства: честность, бесстрашие, прямодушие, — а еще и более редкие: наивность и даже прямолинейность (над которыми могла подтрунить за глаза, но никогда не в ущерб неизменному уважению к этой верности идеалу), особенно привлекательные на фоне уступчивой и мертвящей изобретательности, которой владело большинство. Эпиграф, предложенный ею к ахматовским стихам, — это строчки из четверостишия, открывающего цикл «Черепки»:
Читать дальше