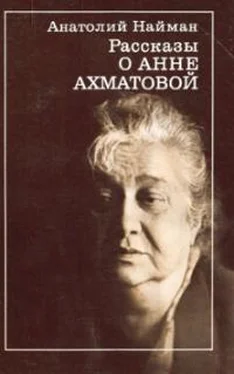«Пятница.
Ночь.
Толя,
сегодня огромный пустой день, даже без телефона и без малейших признаков «Ахматовки». Я почему–то почти все время спала. Была рада, когда Саша Нилин сказал, что Вы узнали библейские нарциссы. Благодарю товарища, который звонил от Вас.
Насколько уютнее было бы, если бы в больнице была я, а Вы бы меня навещали, как когда–то в Гавани.
Лида Ч. нашла эпиграф ко всем моим стихам:
На позорном помосте беды,
Как под тронным стою балдахином.
Но кажется, это не ко всем?!
Вечером приходила Раневская, Алексей приглашал ее в свою картину: «Три толстяка».
Завтра жду Нику.
Если Тагор утомляет Вас — бросьте его и, главное, при первом признаке усталости делайте перерыв: мы еще поедем и к березам и к Щучьему озеру.
Спокойной ночи!
А.
Б–у–д-у Вам писать часто».
«Дом» в первом письме взят в кавычки. В трехкомнатной квартире на улице Ленина, дом34 жили, кроме Ахматовой, Ирина Николаевна Пунина с мужем и ее дочь Анна Каминская с мужем, И Пунина и Каминская относились к Ахматовой, разумеется, уважительно, но с оттенком недовольства — легкого, без объяснения конкретных причин и постоянного. Бывали периоды ласковости, большей близости, они сменялись охлаждением и ссорами, но некоторое недовольство, как и некоторая интимность, демонстрируемая обращением к Ахматовой «Акума», не подвергались колебаниям, они были вынесены за скобки. Про Пунину в ее лучший период Ахматова как–то сказала: «Ира — замиренный горец». К возвращению Ахматовой из Москвы зимой «дом» старался достать путевку в Дом творчества в Комарове; по возвращении из Будки ее, часто через считанные дни, собирали и отправляли в Москву.
Ее комната, длинная, с окном на улицу, была рядом с кухней. Над кроватью висел рисунок Модильяни, у противоположной стены стоял сундук–креденца с бумагами, который она отчетливо называла «краденца». От этого и сундук, и столик с поворачивающейся столешницей, под которой тоже лежали письма и бумаги, и гобеленного вида картинка с оленем, стоявшая на столике и оказавшаяся бюваром, также хранившим письма, и овальное зеркало, и надбитый флакон, и цветочные вазы, и все прочие старинные вещи, выглядевшие в этой комнате одновременно ахматовскими и случайными, соединились в моем сознании с описанием спальни Ольги Судейкиной, героини Поэмы, кончающимся строчкой «Полукрадено это добро». Однажды к ней пришел молоденький воспитанник Оксфорда, занимавшийся темой «Народные истоки творчества Ахматовой», продекламировал с легким акцентом: «Лучше б мне частушки задорно выкликать, а тебе на хриплой гармонике играть», — объяснив таким образом, что он подразумевает под народными истоками. Через некоторое время разговор коснулся Модильяни, она попросила меня показать рисунок, я подошел к кровати, сделал приглашающий жест, он не двинулся с места; решив, что он чего–то не понимает, я объяснил, что вот он, рисунок, потянул гостя за рукав, стал подталкивать. Он с испугом взглянул на портрет и сейчас же вернулся на место. Когда он ушел, Ахматова сказала: «Они там не привыкли видеть постели старых дам. На нем лица не было, когда вы его тащили к краю пучины», Потом: «Они не могут поверить, что мы так живем. И не могут понять, как мы в этих условиях еще что–то пишем». И после новой паузы: «Мог бы про народность у Ахматовой придумать что–нибудь остроумней частушек и гармошки».
Муж Пуниной, чтец–декламатор Роман Альбертович Рубинштейн (которого Анна Андреевна за глаза также называла зощенковским «артист драмы»), выступал с поэмой Смелякова «Строгая любовь» в библиотеках, клубах и таких неожиданных местах, как, например, ординаторские в больницах: в восемь утра, на пересменке ночных и дневных врачей.
Жить в Доме творчества писателей она не любила: всегда на людях, причем не ею выбранных, казарменный «подъем» и «отход ко сну», общий завтрак–обед–ужин, одна ванна на всех, — но мирилась с этим как с неизбежностью. Одна из гостий стала жаловаться ей, что ее знакомому, писателю, достойному всяческого уважения, дали в Малеевке маленький двухкомнатный коттедж, тогда как бездарному, но секретарю Союза — роскошный пятикомнатный. Когда за ней закрылась дверь, Ахматова сказала: «Зачем она мне это говорила? Все свои стихи я написала на подоконнике или на краешке чего–то». В тот раз, когда мы оказались в комаровском Доме творчества вместе, за соседним столиком в столовой сложилась компания писателей средних лет, которые от еды к еде со все большей страстью беседовали на одну и ту же тему: покрошишь голубям хлеб, а воробьи налетают и тотчас склевывают. От еды к еде голуби становились все более простодушными и беззащитными, воробьи — хитрыми и хищными, так что вскоре это уже были никакие не голуби и не воробьи, а совершенно другие существа, одних из которых собеседники хотели облагодетельствовать, других — растерзать. Ахматова сидела спиной к этому столу. За каким–то обедом на нем появилось шампанское. Один из писателей, крупный круглолицый мужчина в точно таком же финском свитере, как и его крупная круглолицая жена, приблизился с двумя бокалами к Ахматовой, прося ее выпить по случаю дня его рождения. Не давая ему договорить, она очень резко объявила, что ей запрещено врачом. Он смутился и, комкая фразы, напомнил ей, что они знакомы по совместному выступлению в 1936 или 1937 году в НКВД, «Вы сошли с ума 1—сказала она. — Вы просто не знаете, кто я такая».
Читать дальше