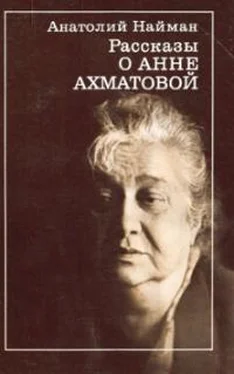В ее комнате против деревянной полки с самыми разными книгами, от подаренной, только что вышедшей, которую она, как правило, спешила кому–то передарить, до французского томика Парни или латинского Горацйя, стоял старый ламповый радиоприемник «Рекорд» с двумя диапазонами: средних и длинных волн. Она говорила, что у него внешность, предполагающая на стене над ним обязательный портрет Сталина: в журналах 40‑х годов печатались фотографии уютных комнат с улыбающимся семейством, с изобилием на столе, с фикусом, со Сталиным в красном углу, а под ним — «Рекорд». Однажды средь бела дня мы поймали по нему передачу радио «Свобода»: диктор безо всяких помех читал нечто зубодробительное из книги Абрама Терца «Город Любимов». Уже были арестованы Терц–Синявский и Аржак–Даниэль, уже Ахматова показала мне фамилию Синявского под каким–то круглым номером в составленном ею месяц до того списке ста людей, которым она собиралась дарить выходивший в свет «Бег времени». Когда передача кончилась, она сказала: «Я не люблю такого гарцевания на костях. Но что касается воровства, так нас на юридических курсах учили, что воровство в России объясняется пониженным чувством частной собственности как следствием первобытнообщинного строя славян. А что пьянство, так не нужно юридических курсов, просто поглядеть в окно».
У изголовья топчана на низеньком столе стоял электрический проигрыватель; либо я брал его в местном пункте проката, либо кто–то привозил из города. Она слушала музыку часто, и подолгу, и разную, но получалось, что на какой–то отрезок времени какая–то пьеса или пьесы вызывали ее особый интерес. Летом 1963 года это были сонаты Бетховена, осенью — Вивальди; летом 1964 года — Восьмой квартет Шостаковича; весной 1965‑го — «Стабат матер» Перголези, а летом и осенью — «Коронование Поппеи» Монтеверди и особенно часто «Дидона и Эней» Перселла, английская запись со Шварцкопф. Она любила слушать «Багателли» Бетховена, много Шопена (в исполнении Софроницкого), «Времена года» и другие концерты Вивальди и еще Баха, Моцарта, Гайдна, Генделя. Адажио Вивальди, как известно, попало в «Полночные стихи»: «Мы с тобой в адажио Вивальди встретимся опять». Маленькая пластинка так и называлась — «Вивальди. Адажио», без ссылок на конкретное сочинение композитора. Пьеса была скрипичная, отсюда:
Но смычок не спросит, как вошел ты В мой полночный дом.
Французский переводчик перевел эти строчки как–то так: «Пес не залает, когда ты войдешь», решив, что Смычок — кличка собаки.
В один из дней она попросила для разнообразия найти какую–нибудь музыку по приемнику. Я стал передвигать стрелку по шкале и заметил вслух, что полно легкой. Ахматова отозвалась: «Кому она нужна». — «А вот какая–то опера». — «Оперы не всегда плохо». — «Когда, например, ее плохо?» — «Когда „Хованщина". Или „Град Китеж"». Вдруг послышалось из «Пиковой дамы»: «Я подвиг силы беспримерной готов сейчас для вас свершить». «Ну и ну, что ж это значит? — сказала она, как если бы услышала в первый раз. — Впрочем, «Пиковая» — всегда хорошо, «Онегин» — вот ужас».
Говорить про Ахматову «она писала стихи» — неточно: она записывала стихи. Открывала тетрадь и записывала те строки, которые прежде уже сложились в голове. Часто вместо строчки, еще не существующей, еще не пришедшей, ставила точки, записывала дальше, а пропущенные вставляла потом, иногда через несколько дней. Кстати сказать, две последние строки четверостишия в письме ко мне от 21 сентября записаны поверх двух пунктирных линий, прочеркнутых прежде. Некоторые стихи она как будто находила: они уже существовали где–то, никому на свете еще не известные, а ей удавалось их открыть — целиком, сразу, без изменений впоследствии. Чаще всего это бывали четверостишия, например:
Глаза безумные твои И ледяные речи И объяснение в любви Еще до первой встречи.
Когда она «слагала стихи», этот процесс не прерывался ни на минуту: вдруг во время очередной реплики собеседника, аа чтением книги, за письмом, за едой она почти в полный голос пропевала–проборматывала — «жужжала» — неразборчивые гласные и согласные приближающихся строк, уже нашедших ритм. Это гуденье представлялось звуковым, и потому всеми слышимым, выражением не воспринимаемого обычным слухом постоянного гула поэзии. Или, если угодно, первичным превращением хаоса в поэтический космос. С годами эта работа переходила на все более конкретные самоуточняющиеся уровни: знаменитый ее дольник подавлялся классическим метром, трех- или четырехкатренное стихотворение тяготело к модифицированному сонету, приблизительное созвучие вытеснялось изысканной рифмой. Она рассказывала, что Лозинский говорил про рифмы сказал — глаза или наш — отдана: «Так рифмовать и чтобы выходило хорошо — получается только у вас», А когда продиктовала мне песенку, позднее отданную «Поэме без героя»;
Читать дальше