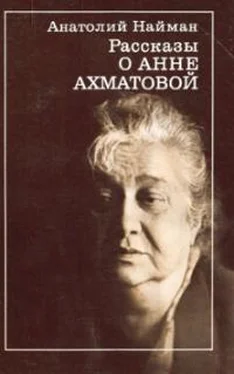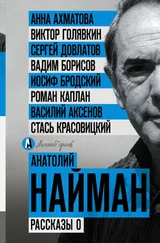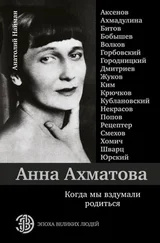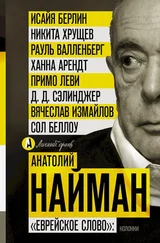И через несколько дней: «А с Пастернаком я возвращалась под утро — это было вскоре после войны — как раз с грузинского пира. Нам было по пути, в Замоскворечье, он взял меня под руку и всю дорогу говорил о поэте Спасском, ленинградце: какой это замечательный поэт. Перешли мост, и вот здесь, на Ордынке, — она показала подбородком в сторону реки: мы с ней стояли у ворот ардовского дома, — он уже совсем захлебывался: Спасский! Спасский! вы, Анна Андреевна, не представляете себе, какие это стихи, какой восторг… И тут он в избытке чувств стал меня обнимать. Я сказала: «Но, Борис Леонидович, я не Спасский». Это типичный он. Борисик».
Зимним солнечным днем я забежал на Ордынку и застал Анну Андреевну сидящей а гостиной за столом, покрытым ослепительно белой скатертью, вместе с Ниной Антоновной и еще двумя пожилыми людьми: элегантным статным мужчиной и очаровательной хрупкой дамой, которых я принял за мужа и жену. Представив меня, Ахматова с улыбкой прибавила: «Анатолий Генрихович — поклонник „Театрального романа"». «Театральный роман» только что появился в «Новом мире» и был тогда у всех на языке. Дама взглянула на меня, тоже улыбнулась. Вообще с самого начала улыбались — и чем дальше, тем веселей, — все, кроме мужчины. Я понял ахма- товскую фразу как приглашение к теме и сказал, как мне понравился роман и чем. Улыбки, приветливые, но более широкие, чем, я ощущал, должны были вызвать мои слова, у всех и саркастическая у мужчины вынудили меня на похвалы менее искренний и потому более жаркие, Женская смешливость и мужская неприязненность, проявившаяся уже в хмыканье и реплике «вон как!», еще усилились. Я почувствовал себя неуютно, но не хотел сдаваться, привел несколько лучших примеров булгаковского стиля, Ахматова перебила меня: «Позвольте представить вам Елену Сергеевну Булгакову», Мой конфуз, общее удовольствие, недоверие мужчины: «Да он знал, а не знал — мог догадаться». Это был Михаил Давыдович Вольпин, драматург, человек острого, немного желчного ума и жалящего языка, в 20‑е годы на поэтических концертах ошикивавший Ахматову из любви к Маяковскому и одним из считанных людей выслушавший от нее «Реквием» в конце 30‑х. Во время войны он и драматург Эрдман, ближайший его друг, оба в военной форме, навестили, попав в Ташкент, Ахматову. Они знали только приблизительно, где находится дом, и, по ее словам, всякий, у кого они спрашивали, в какой она живет квартире, спешил в уверенности, что «за ней пришли», сообщить им что–нибудь разоблачительное. Когда же они, почтительно держа ее под руку, вышли из дому и через пять минут вернулись с большими бутылями вина, собравшиеся у крыльца были в смятении и глубоком разочаровании…
В тот зимний день, уходя, Елена Сергеевна повернулась ко мне и сказала: «Если хотите, я могу дать вам прочесть другой роман мужа, у себя дома, разумеется». За три дня в ее квартире со светлыми, словно воском натертыми полами и павловской мебелью, в доме у Никитских ворот я прочел две папки «Мастера и Маргариты». Я признался Ахматовой, что сладкие часы чтения, тем более обаятельного, что оно совершалось в этой исключительной и самой выгодной для него обстановке, в конце концов осели во мне томящим разочарованием. Пленительный, живой, «булгаковский» слой советской Москвы должен был, по замыслу писателя, включиться в евангельский, то есть вневременной, вечный, а вышло, пожалуй, что он низвел его до себя и в виде стилизованной исторической беллетристики, написанной к тому же без заинтересованности, «на технике», включил в себя. Она ответила неохотно: «Это все страшнее», — может быть, не именно этими словами, но в этом смысле, потом спросила насмешливо: «Ладно, что она его вдова, вы не догадались, но вам хоть понятно, что она Маргарита?»
Она называла Булгакову образцовой вдовой, то есть делавшей для сбережения и утверждения памяти мужа все что было в ее силах. Она рассказывала о преданности этой молодой, красивой, избалованной женщины полуопальному, а потом смертельно больному мужу. Однажды речь зашла о «декабристках двадцатого столетия», кажется, это был термин Надежды Яковлевны Мандельштам; затем о женах, разделивших судьбу, прижизненную и посмертную, мужей, о Булгаковой, о Стенич; затем о женах отказавшихся и предавших. Всплыло имя жены Н., которая была задумана природой как жена заслуженного артиста, и три года, пока Н. был заслуженным, она была счастлива. Потом ему дали народного, она растворилась в небытии. Ее место заняла другая, приспособленная быть женой народного артиста. Потом Н. оклеветали, посадили, сняли с него звание, и он остался один. «На эту роль дамы не нашлось», — жестко проговорила Ахматова.
Читать дальше