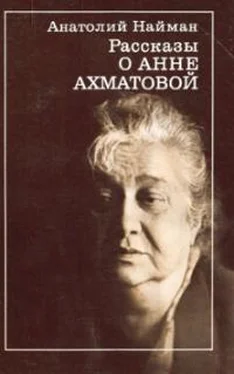Она редактировала упомянутые уже мемуары В. С. Срезневской: «…характерный рот с резко вырезанной верхней губой — тонкая и гибкая, как ивовый прутик, — с очень белой кожей — она {особенно в воде царскосельской купальни) прекрасно плавала и ныряла, выучившись этому на Черном море, где они не раз проводили лето (см. «У [Ахматова вставляет: самого] моря», поэма Ахматовой). Она казалась русалкой, случайно заплывшей в темные недвижные воды царскосельских прудов [Ахматова приписывает: и до сих лор называет себя последней херсонидкой ]. Не мудрено, что Ник. Степ. Гумилев сразу и на долгие годы влюбился в эту, ставшую роковой, женщину своей музы. Ее образ, то жестокой безучастной и далекой царицы, — перед которой он расточает «рубины божества» [Ахматова исправляет: волшебства], — то зеленой обольстительной и как будто бы близкой колдуньи и ведьмы, — в «Жемчугах», в «Колчане» (Ахматова зачеркивает «Колчан»! и еще много позже — уже как осознанный и потерянный навсегда призрак возлюбленной и ушедшей женщины — давлеет над сердцем поэта. Чтобы показать, что это не мои «домыслы и догадки» (как это нередко бывает в биографиях больших поэтов), а живая и настоящая правда, сошлюсь не только на свою многолетнюю радостную дружбу с обоими, но на более убедительный и несомненный след этой любви в стихах Н. С. Гумилева». [Далее Ахматова вписывает названия обращенных к ней его стихов начиная с «Пути Конквистадоров».)
Валерия Сергеевна, урожденная Тюльпанова, была самой давней ее подругой. Еще в Царском, когда Горенки перебрались с первого во второй этаж дома Шухар- диной, в первый въехали Тюльпановы, и к брату «Вали» Андрею приходил в гости его соученик Гумилев. У нее жила Ахматова в Петрограде на Боткинской, 9 (при клинике, в которой служил врачом доктор Срезневский) с января 1917 года до осени 1918‑го, то есть пережила обе революции, простилась с Анрепом, вышла за Шилейко. У Срезневской же поселялась еще несколько раз, посвятила ей одно из лучших своих стихотворений «Вместо мудрости — опытность». Вспоминала, как вдвоем они однажды ехали на извозчике, одна другой на что–то жаловалась, и извозчик, «такой старый, что мог еще Лермонтова возить, неожиданно произнес: «Обида ваша, барышни, очень ревная», — неизвестно которой». Когда Срезневская умерла в 1964 году, Анна Андреевна сказала: «Валя была последняя, с кем я была на ты. Теперь никого не осталось». Срезневская оставалась свидетельницей самых ранних лет, когда завязывались главные узлы ахматовской судьбы, и под некоторым нажимом Ахматовой и с установкой, совместно с нею определенной, начала писать воспоминания. В приведенном отрывке Ахматова оставляет как есть «давлеет» (вместо «тяготеет» — безграмотность, на которую она в других случаях вскидывалась) и «женщину своей музы». Вписывая «херсонидку» или названия гумилевских стихов, она не изменяет воспоминаний ни как самовыражения мемуаристки, ни как документа. Она только ссужает, даже не из своей, а из общей для них обеих памяти тем, чего той недостает, — прилагает к справке оборвавшийся уголок.
Ее память — «хищная», «золотая», если пользоваться словами, произносимыми ею б похвалу памяти других, — казалось, была устроена особенным образом: сохраняла в себе то, что случилось в конкретной ситуации, и одновременно то, что должно случаться в таких ситуациях. Причем это было не знание, выработанное по аналогии со случившимся, или со случавшимся, в ее жизни, то есть не вследствие опыта — хотя оно параллельно и опиралось на весь ее огромный опыт, — а как будто с рождением унаследованное неизвестно от кого, заложенное в самую глубину неизвестно когда. Ахматова именно не знала некоторые вещи, которых не была очевидицей, а помнила. Механизм вспоминания, описанный ею в связи с Блоком: «Записная книжка Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям», — распространялся у нее и на события, отпечатлевшиеся в пра- памяти. «Один раз я была в Слепневе зимой. Это было великолепно. Все как–то сдвинулось в XIX век, чуть не в пушкинское время. Сани, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазы». Это не представление о пушкинском времени, питаемое знанием, — а узнавание. То же самое бывало при чтении книг: среди страниц, описывающих то, что она не могла подтвердить или опровергнуть своим свидетельством, она натыкалась на строку о том, что «помнила», подлинность или поддельность чего «узнавала» по «воспоминанию», будь это Хемингуэй, или Аввакум, или Шекспир, или Плутарх. «Ну конечно! — воскликнула она, ткнув пальцем в подстрочник папируса, который просматривала среди других, прежде чем дать согласие на перевод египетской лирики. — Pyramid' altius. Для Горация пирамиды были абстракцией, а этот выглядывал в окошко и их одни и видел». «Этот» был писец, прославлявший писцов глубокой древности: «Они не строили себе пирамид из меди и надгробий из бронзы». С такой же определенностью говорила она, что ее дед по матери, Эразм Иванович Стогов, «жандармский полковник», проходил мимо Пушкина в анфиладах III отделения (хотя знать она могла только, что он с 1834 года служил жандармским штаб–офицером в Симбирске).
Читать дальше