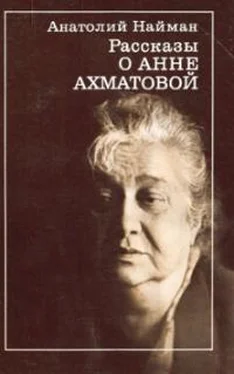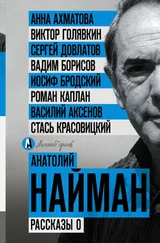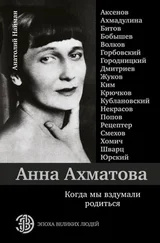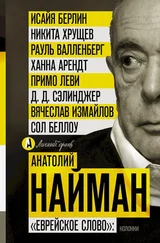Сродни «вспоминанию» был и метод, приводивший ее к некоторым открытиям в пушкинистике, особенно последнего времени: сперва она «узнавала», что дело обстояло именно так, а не иначе, и действительно вскоре к этому, как к магниту, начинали стягиваться необходимые доказательства — процесс, прямо противоположный подгонке фактов под концепцию.
При таком пользовании «чьей–то» «даром доставшейся» памятью Ахматова и эту память и благоприобретенную щедро тратила на нуждающихся в ней. Правда, за ее спиной говорилось иногда, что она это делает небескорыстно, что она пристрастна и, по–своему толкуя факты, навязывает «субъективное» мнение. Я не наблюдал, чтобы она доказывала свою правоту, наоборот, ее упоминание о ком–то или о чем–то было — по крайней мере, внешне — беззаботно, сплошь и рядом юмористично, свободно: хотите — верьте, хотите — нет (каковыми словами она, кстати сказать, часто заканчивала свою речь). Она не «тянула на себя одеяло», не подправляла историю литературы, ее вполне устраивала суммарная оценка ее судьбы, поэзии и места в русской и мировой культуре, так же как судеб и творчества ее современников. Если она нападала или защищалась, то прежде всего ради справедливости в общечеловеческом плане. В наши молодые годы Бродский был окружен безотчетным расположением тех же людей, чью безотчетную неприязнь чувствовал я. Он мог пообещать и забыть встретить на вокзале человека, приехавшего из другого города, — обвиняли того: зачем ехал. Я мог попасть в больницу с сердечным приступом — говорили: доигрался. «Это как кому на роду написано, — объясняла Ахматова. — Как бы гнусно Кузмин ни поступал — а он обращался с людьми ужасно, — все его обожали. И как бы благородно себя ни повел Коля, все им было нехорошо. Тут уж ничего не поделаешь».
Она рассказала: «Бунин сочинил эпиграмму на меня:
Любовное свидание с Ахматовой Всегда кончается тоской: Как эту даму ни обхватывай, Доска останется доской.
А что? По–моему, удачно».
И с таким же удовольствием: «Я рождена, чтобы разоблачать Вячеслава Иванова. Это был великий мистификатор, граф Сеи–Жермен. Его жена, Зиновьева–Анни- бал, умирает от скарлатины: в деревне, в несколько дней, просто задыхается. Он начинает жить с ее дочерью от первого мужа, четырнадцати лет. У той ребенок от него, какой–то попик в Италии незаконно их венчает. И вот, сэр Б. и сэр Б. торжественно объясняют это предсмертной волей жены… Блок, по европейским представлениям, это тот, кто „заходил в знаменитую Башню Вячеслава Иванова", „Вячеслав Иванов научил Ахматову писать стихи". Везде он оставлял старичков, плачущих по нем, в Баку, в Италии». С ноткой мстительности: «Но не в России, Он впивался в людей и не отпускал потом — «ловец человеков». В оксфордской книжке «Свет вечерний» его портрет: восьмидесятидвухлетний старик с церковной внешностью, но ни ума, ни покоя, ни мудрости — одни подобия».
«Я вам не ставила еще мою пластинку про Бальмонта?
Бальмонт вернулся из–за границы, один из поклонников устроил в его честь вечер. Пригласил и молодых: меня, Гумилева, еще кого–то. Поклонник был путейский генерал — роскошная петербургская квартира, роскошное угощение и все что полагается. Хозяин садился к роялю, пел: „В моем саду мерцают розы белые и кр–расные". Бальмонт королевствовал. Нам все это было совершенно без надобности.
За полночь решили, что тем, кому далеко ехать, как, например, нам в Царское, лучше остаться до утра. Перешли в соседнюю комнату, кто–то сел за фортепьяно, какая–то пара начала танцевать. Вдруг в дверях появился маленький рыжий Бальмонт, прислонился головой к косяку, сделал ножки вот так [тут она складывала руки крест- накрест] и сказал: „Почему я, такой нежный, должен все это видеть?"».
Эту фразу она иронически–печально произносила при виде либо чего–то ей симпатичного, но, по общему мнению, недостойного Ахматовой (например, когда вышла на веранду комаровского домика и застала гостивших у нее молодых людей садящимися по двое на велосипеды, чтобы отправиться на реку Сестру купаться); либо несимпатичного, но не стоящего более серьезной реакции (например, когда ей на глаза попался журнал с фотографиями Элизабет Тейлор в роли Клеопатры).
Каким–то образом людей «до тринадцатого года», то есть старших, включая и тех, с кем она была хорошо знакома, в ее рассказах сносило в XIX век, через Толстого к Тургеневу, Фету, Некрасову. Они исполняли роль связки между ее прошлым и прошлым историческим. Точно так же как не попавших в «тринадцатый год», пусть даже сверстников, уже покойных ко времени ее рассказа, Пастернака, Пильняка, Булгакова, выносило в настоящее. Они оказывались целиком вписанными в советское время, были нам понятны, как наши тогда еще живые папы и мамы, и исполняли в биографии Ахматовой функцию знаков ее 20‑х, 30‑х, 40‑х годов… Я уходил на вечеринку к моим приятелям–грузинам. Она заметила вскользь, что одни, как Пастернак, «предаются Грузии» (одно из привычных ее словоупотреблений; например, о писателе — авторе нескольких «криминальных романов»: «Герман в это время уже предался милиции…»), она же «всегда дружила с Арменией», Я ответил, что в этой компании сколько грузин тбилисских, столько и московских, да и тбилисский грузин в Москве почти то же самое, что ленинградец в Москве. Она сказала, что была знакома с некоторыми из московских. Я назвал имя Бориса Андроникашвили. «Как же… Он должен быть ваш ровесник. Пильняк, когда был в Америке, купил автомобиль, его морем привезли в Ленинград. Пильняк приехал, чтобы перегнать его в Москву, предложил мне сопровождать его, прокатиться, я согласилась. Мы отправились, белая ночь. Когда приехали, он узнал, что в эту ночь у него родился сын. Этот самый ваш Борис Борисович… У Пильняка было неблагополучно с женами, одна из них — не мать Бориса — кажется, сыграла свою роль в его аресте. Но погубила его, как и Бабеля, близость к НКВД. Обоих тянуло дружить и кутить с высокими чинами оттуда: «реальная власть», острота ощущений да и модно было. Их неизбежно должно было всосать в воронку». Помолчала, потом сказала: «Пильняк семь лет делал мне предложение, я была скорее против».
Читать дальше