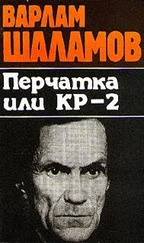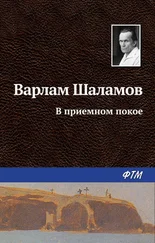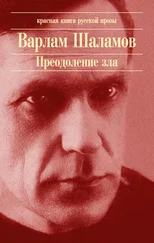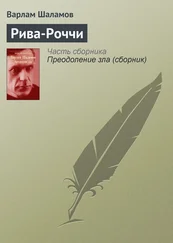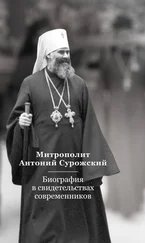В то же время он мне рассказал, смеясь, и совершенно спокойно, как его вели куда-то два конвоира на принудиловку и они очень торопились, так как там в этот день для вольнонаемных было кино, а кино на Колыме – на дальних приисках было чрезвычайное событие не только для заключенных, но и для вольных. А он, по мнению этих конвоиров, шел слишком медленно, у него не было сил. Посовещались, они сказали, давай его покормим, может, он пойдет быстрее. И дали ему хлеба. Хлеб он, конечно, съел, но быстрее идти не мог. Тогда они его стали бить. Конвоиры на сеанс опоздали. Меня удивило, что он об этом рассказывал как-то иронически и смеясь. Мужчин так много били на Колыме, что они уже, если так можно выразиться, к этому привыкли, и там, где это было возможно, даже проявляли чувство юмора.
По окончании срока он поехал в Магадан, пытался там устроиться. Устроиться ему не удалось. Но он получил направление куда-то на трассу, почти на границе с Якутией. Там до него были беспробудные пьяницы и люди, которые совершенно не желали и не умели никого лечить. А Варлам Тихонович не пил и относился к больным по-человечески, лечил их, поэтому местное начальство и все население относилось к нему очень хорошо, чего не было бы, кстати, в Магадане, потому что там было очень много договорников. Позднее он сказал мне: вот я теперь смогу помогать своей дочери.
Как-то он заехал на Левый берег за какими-то справками и зашел ко мне. Увидел у меня несколько книг Пастернака, стихов Пастернака – мне их из Магадана переслал Португалов. К сожалению, моя младшая дочь успела их расчертить карандашом, и эти исчерченные экземпляры он с горьким вздохом попросил подарить, я ему отдала. Мне было очень неудобно, что я не доглядела, и они попали в руки моей младшей дочери. Это были небольшие сборники, названия не помню.
Когда я приехала в Москву, мы вместе с мужем к нему зашли. Тогда он жил где-то около Арбата. И я впервые познакомилась с его второй женой Ольгой Сергеевной Неклюдовой, с которой впоследствии сдружилась. Позднее они получили квартиру около Беговой улицы, там я часто бывала. Теперь о некоторых его оценках. Он считал, что самые большие поэты XX столетия – это Блок и Пастернак. Иногда цитировал их отдельные четверостишия, строчки. Удивил меня, что он Веру Панову считал хорошей писательницей, к которой я лично относилась несколько сдержанно. Характер у него был трудный, я бы даже сказала, неуравновешенный.
Иной раз придешь в гости, Варлам Тихонович – сама любезность, снимет пальто, подаст пальто, примет участие в общем разговоре. Но, бывало и так: сижу я с Ольгой Сергеевной, он приоткроет дверь и, не поздоровавшись, скажет: «Ах, это вы!» и уйдет в свою комнату. Варлам Тихонович часто менял оценки книги, людей. Иногда он того или другого писателя расхвалит, а через две-три недели, хотя за этот период данный писатель или поэт нигде не выступал, не выпустил никаких книг – уже совершенно другая, резко отрицательная оценка. Знаю о том, что он очень долго не вступал в Союз советских писателей, хотя ему несколько раз предлагали. Чем это было вызвано, я не знаю. Но позднее он все же вступил. Он был очень тщеславен, но, к сожалению, много из того, что он писал в те времена не могло быть напечатано.
Был у нас разговор насчет одного журналиста, который выступал в это время с очень ортодоксальных позиций, многие его осуждали, осуждал его и Варлам Тихонович. Он сказал: «Но я ему прощаю больше, чем другим, потому что он прошел через Колыму». Давала я ему читать свои рассказы, некоторые ему понравились, некоторые – нет. С его оценками я в общем согласилась, потому что несколько рассказов было о Колыме, о лагере, а несколько – о Колыме, не касались лагеря, их можно было попробовать напечатать, чего я, кстати, не сделала. Он мне тогда сказал: «Вы прошли через Колыму. Это дает Вам моральное право».
Очевидно, он считал, что для него, чтобы писать, человеку нужно быть участником больших событий и коллизий.
Рассказал он мне, что в ЦДЛ встретился с Генрихом Беллем. Генрих Белль был знаком с его рассказами, вышедшими на Западе. Мне показалось, что Варлам Тихонович был очень польщен, ведь это же был Генрих Белль.
Я знаю, что он хорошо относился к творчеству моего отца. Лично он его не знал. Мне кажется, что это хорошее отношение он частично как-то переносил на меня.
Разговаривали мы с ним о текущих литературных и политических событиях всегда очень откровенно и непосредственно. Он считал, что 37-й и другие годы по своим жертвам далеко превосходят все то, что было в истории человечества, а я полагала по своей наивности, что в истории человечества были тоже очень тяжелые годы: татарское иго, инквизиция. Потом я поняла, что инквизиция, это совсем, конечно, ничто по сравнению с той огромной гибелью людей, которая прошла на Колыме и в других лагерях.
Читать дальше