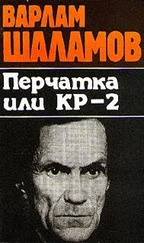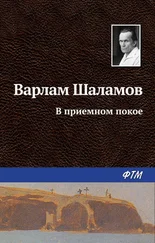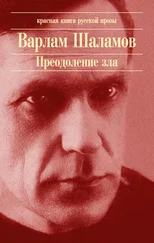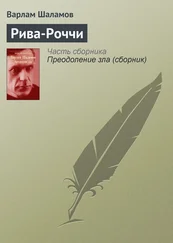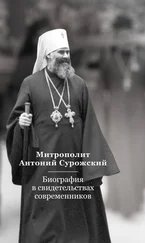И это для меня бесспорно подтверждалось тем, что делал Шаламов. Здесь был не просто, как я видел, более глубокий и точный лагерный опыт, это была иная подлинность мира. Шаламов вышел из лефовского круга, где к форме относились серьезно. В 30-е годы он уже выпустил книгу очерков. Он был близок к Сергею Третьякову, к Брикам… Когда Солженицын попал в лагерь, он еще не думал о литературе всерьез. Шаламов попал в лагерь первый раз прямо из московского университета, и это был его предварительный опыт. Потом он оказался в центре литературной жизни, хотя и не был центральный фигурой. Основной задачей Шаламова был поиск формы, вмещающей доселе небывалый для человеческого сознания опыт. Естественно, форма неизбежно должна оказаться новой для литературы. Кстати, мне кажется, именно поэтому в 60-70-е его мало кто понимал. Простота и ясность Шаламова казались большой странностью и трудно воспринимались. Его читал очень узкий круг не только потому, что это был самиздат, но и потому, что русская интеллигенция в самиздате искала информации, а не литературы. Это было время литературы о лагерях – вот я в связи с Солженицыным сказал «тургеневской», но, может быть, правильней было бы сказать – народнической. Книга Евгении Гинзбург, воспоминания генерала Горбатова… Это было время рассказов о лагерях, а не понимания человеческой природы. И в этом смысле Шаламов был бесспорным исключением.
Всех интересовали события: что же было по-настоящему. Для того времени были очень характерны реплики Твардовского. Когда Анна Андреевна прислала ему «Поэму без героя», Твардовский прочитал и честно сказал: «Ничего не понимаю, но это Ахматова – будем печатать»… То есть было почтение к судьбе XX века, но не было понимания литературы нашего времени. В этом состояла существенная слабость «Нового мира»: при всем его замечательном значении, это был журнал XIX века, продолжающий традиции «Русского богатства»… У Шаламова не было такого имени, а точнее, не было никакого имени, и поэтому, когда «Колымские рассказы» попали к Твардовскому, он, как мне передали, сказал: «Ну что это, какие-то очерки… Нам это не нужно». Это был характерный парадокс того времени: наиболее сложная, напряженная и внутренне насыщенная литература воспринималась как недостаточно профессиональная и малоинформативная. Вся среда «Нового мира» весьма скептически относилась к литературе XX века, к авангарду, к новым опытам.
Кроме того, Варлам Тихонович лишился единственной в то время среды, которая могла быть близка ему – это было нечто вроде салона у Надежды Яковлевны Мандельштам. Надежда Яковлевна была человеком довольно высокомерным, а тут – Шаламов, который считает себя еще и писателем, а не только почитателем Мандельштама… И Шаламов оказался вне даже этого кружка, остался один… Хотя и он, и Вячеслав Всеволодович Иванов рассказывали мне несколько по-разному одно и то же. После своего последнего освобождения Шаламов, хотя и оказался на свободе, но уехать, как и другие бывшие зеки, из Магадана не мог и решил, что и умрет здесь. Ему удалось уговорить знакомого врача, возвращавшегося на Большую землю, передать свою «Синюю тетрадь» Пастернаку. Рассказывают, что тот ходил по Переделкино и всем говорил: вот, смотрите, есть в России поэты, какие замечательные стихи… Пастернак ответил Шаламову большим письмом, послал свой перевод «Гамлета» с дарственной надписью на весь фронтиспис. Их недолгая переписка была очень важна для Варлама Тихоновича. К Шаламову очень хорошо относился Аникст, может быть, еще несколько человек – но всего несколько человек. И все это при его собственном ясном понимании своего места в литературе, ясном понимании значения того, что он делает.
Варлам Тихонович был человеком жестким. С лагерным неприятием приспособленческого мира… Он осуждал Толю Жигулина, который перемежал лагерные стихи «вольными» для того, чтобы напечатать лагерные, Аркадия Белинкова, который, чтобы его книга о Тынянове вышла, включил в нее какое-то место о троцкистах, отравлявших колодцы… Не принимал попыток сказать правду за счет неправды. Плохо относился и ко всем вступлениям в Союз писателей. В тот период его позиция была абсолютно твердой, но повторяю: он чувствовал себя совершенно одиноким – люди, которые хорошо к нему относились и к которым он сам относился неплохо (в том числе и я), были людьми совсем иного опыта, а потому и иной внутренней структуры. Его одиночество было непреодолимым. Однажды Щипачев (секретарь Союза писателей Москвы, человек, считавшийся по тем временам необыкновенно либеральным) узнал, что вот есть такой писатель Шаламов, и прислал своего секретаря, чтобы тот взял стихи и рассказы «для ознакомления». Теоретически дать было бы полезно. Но для Шаламова это было настолько оскорбительно, что он ничего не дал, и рассказывал мне об этом, как бы размышляя, но не желая ничего менять. Это был одновременно и «пафос дистанции» (популярная тогда формула) великого писателя от литературного чинуши, и гордость зека, и обида на ничего не понимающий мир.
Читать дальше