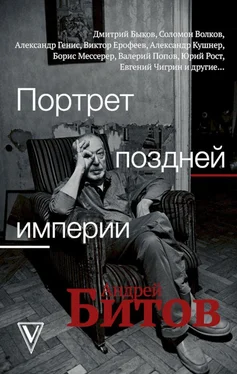Вернусь в Ленинград и всех увижу. И начну писать. А раз писать, значит, какое-то время быть собой довольным».
У него были основания быть собой довольным: еще в шестидесятые он написал прекрасную книгу «Дачная местность», яркий очерк, нет, не очерк, а прозу — «Уроки Армении», к нему пришла известность, заслуженная слава.
Увы, из Ленинграда он уехал в Москву: в Москве и журналов больше, и жить легче, и начальство не такое строгое, как в Ленинграде. Видеться мы стали реже, но приезжая в Ленинград, звонил и приходил в гости. И мы, выпивая (он любил и умел это делать), опять говорили обо всем на свете. Но разве можно вспомнить давние беседы? Разве можно передать «прямую речь»? Он бы сказал: «Их надо выдумать», но я не прозаик и выдумывать не умею. Стихи — другое дело.
К его семидесятилетию в журнале «Звезда» (май 2007 года) напечатано мое стихотворение, в некотором смысле дублирующее «Двух мальчиков»:
Два старика, два тихих дурака
Сидят в саду и взгляду свысока
Предпочитают взгляд на жизнь в упор,
Как в детстве, зоркий: дорог даже сор.
У ног шныряют голуби в пыли.
И говорит старик: «Ну что, пошли?»
И говорит минуты через три
Другой: «Пора! Смеркается, смотри».
Заря позолотила облака.
− Ты не похож ничуть на старика.
− А ты, мой друг, какой же ты старик?
За столько лет ты к жизни не привык.
Вечерний луч замешкался в листве,
Прошла еще минута или две.
Привстать и сесть опять, и закурить.
Как хорошо! Обидно уходить.
Но уходить приходится, придется. Вот он и ушел в декабре прошлого года.
И хотя я, конечно, знал, как тяжело он болел последние несколько лет, видел, как он замучен болезнью, известие о его смерти меня пронзило, нанесло глубокую, незаживающую рану.
«Умирая, он, может быть, вспомнил меня…»
Умирая, он, может быть, вспомнил меня
С огорченьем и тайной обидой,
Что, любуясь метелью декабрьского дня,
Я сижу над тетрадью раскрытой.
И какое-то нужное слово ищу
И, не зная, что он умирает,
Никуда не спешу, ни о чем ни грущу,
День как день, и ворона летает.
Умирая, подумал, быть может, о том,
Что его пережил я, − так надо,
Почему? для чего? в распорядке таком
Кто повинен? судьба виновата?
В чьих руках это зло, этот строгий черед?
Кто сплетает и дергает нити?
Иль ему обещали: и этот умрет.
Чуть попозже умрет, извините.
Это было когда-то для нас ерундой,
Пустяком, ничему не мешало,
В разговоре — смешком, в темном небе — звездой,
Очевидностью горькою стало.
Или он обо мне не подумал? Боюсь,
Что подумал, к последнему краю
Подходя, и к стене отвернулся: и пусть.
Я бы точно подумал, я знаю.
2019
Анатолий Макаров
Москва
Писать, чтобы понять
© А. Макаров
Андрей Битов был одним из самых умных людей России. И уж само собою, одним из умнейших людей русской литературы.
Написав эти слова, я имею в виду не житейскую, обыденную, практическую ипостась битовского ума (хотя и ее тоже), но прежде всего − его творческую способность исследовать, постигать, изучать жизнь в ее сущностном, заветном смысле. Не теряя при этом ее будничного, повседневного контекста. Более того, выявляя между ними тонкую неразрывную связь.
Битов заметил как-то, что есть образованные, глубокие люди, которые, взявшись за перо, обнаруживают невнятность и заурядность самоучки. И есть люди с виду простоватые и обыкновенные, которые на бумаге вдруг проявляют вроде бы неожиданную прозорливость и мудрость суждений.
Сам Андрей Георгиевич был основателен и философичен как в быту, так и за рабочим столом. Жить, существовать значило для него думать, размышлять, докапываться до окончательной правды, а уж писать и подавно. Он явно имел в виду себя, когда говорил об авторе, который в ответ на какой-либо вопрос честно признается: пока не знаю, но вот напишу об этом, тогда начну кое-что в этом понимать.
В этом и заключался битовский писательский метод. Точнее, его авторская природа. Работая над вполне беллетристическим текстом, он кропотливо и пристально исследовал окружающую действительность, в том числе и реалии собственной души. Может быть, поэтому при всей психологической и философической глубине эти штудии никогда не теряли эмоциональной заразительности, поэтического обаяния. Они открывали читателю глаза на самого себя. На свои страхи и надежды, комплексы и прозрения и одновременно на весь Божий мир, сочетающий высшее предназначение с будничной неизбывной конкретностью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу