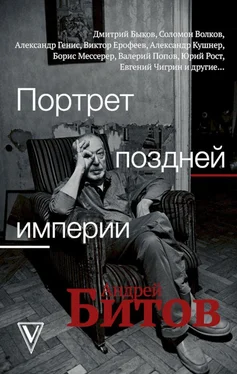Второе (а формально, вероятно, первое) — нахальная и блистательная в своей удачливости попытка влезть в шкуру Александра Сергеевича, показать психомоторику рождения стиха как бы изнутри (а для нас, слушающих — как бы со стороны). Подозреваю, что изначальная задача была именно такова — все прочее добавилось в процессе. Для того чтобы просто наткнуться на эту идею, нужно было бессчетно перечитывать эти самые черновики — перечитывать именно как чтение душеполезное и доставляющее эстетическое удовольствие, а не сухим глазом текстознатца-интерпретатора.
И наконец, третье: те поиски «нашим всем» чистоты звука, единственно верной интонации, которые и выставил Битов напоказ в своем проекте, содержат полузабытый ныне намек на изначальную связь поэзии и мелоса. Впрочем, даже не намек и уж никак не декларацию, скорее все-таки урок — для меня лично чрезвычайно значимый.
Другой урок, человеческий, касается омрачившей последние годы Андрея Георгиевича истории с попыткой рейдерского захвата ПЕНа. Я был в Питере, маму выхаживал — и он был в Питере, приходил в себя. Иногда я забегал в гости, обсуждали происходящее. Битов дивился: «Я же сам уходить собирался, но если они так — придется остаться». И он остался еще на один срок, хотя сил уже практически не было. Т. е. эта внутренняя стойкость фантастическая — которая опиралась явно на некую мальчуковую доблесть его легендарной юности — не покидала Битова до последнего часа. Помню разговор, когда Андрей Георгиевич иронизировал над тем, как справедливо его причислили к «ватникам»: «Я памятник Империи ваял, когда ни о каких „ватниках“ еще речи не было. А теперь и Иосиф в имперские поэты попал…» И тут я вспомнил, как ловко Томас Венцлова парировал зачисление Бродского в «имперские поэты»: «Есть ведь еще Империум культуры, гораздо более беспощадный…» — «Вот! — довольно хмыкнул Битов. — Вот!»
И последний урок. Поименую его профессиональным. В авторском послесловии к «Путешественнику» Битов предлагает обоснование изобретенного им жанра: дубль «объединяет акт написания и чтения, подтягиваясь к живописи. Ибо живопись мы сначала видим целиком, а потом разглядываем, а литературу сначала разглядываем (в последовательности чтения), а потом видим целиком, как картину. Автор не способен перечитать себя — поэтому он повторяется». Обоснование, надо сказать, отдающее оголтелым солипсизмом. В самом деле, читателю-то какое дело до авторской способности-неспособности перечитать себя. Читатель, будь он трижды филолог, все одно обращается к буковкам на бумаге как к литературе, т. е. именно «в последовательности чтения». Это потом уже он, прочитав и отрефлектировав, получит возможность оценить случившийся текст целиком, как картину. Как это предлагал ему — хотя и в эпилоге — своенравный автор. Но вопрос о солипсизме — т. е. вопрос о том, куда девается (и продолжает ли вообще существовать) читатель в тот момент, когда он, дочитав ли последнюю страницу, отложив ли в сторону за ненадобностью, захлопывает книжицу — похоже, был для автора вовсе не праздным. За свыше чем полвека литературной работы он воспитал, выпестовал любовно собственного читателя. Предполагаемая Битовым степень читательского участия в тексте была не столь категорична, как жесткий императив Цветаевой, едва ли авторского сотворчества не требовавшей, — тем не менее они одной природы.
В отклике на смерть Сергея Довлатова Бродский сказал (и в его устах это прозвучало как высшая похвала): «…двигало им вполне бессознательное ощущение, что проза должна мериться стихом <���…> он стремился на бумаге к лаконичности, к лапидарности, присущей поэтической речи: к предельной емкости выражения. Выражающийся таким образом по-русски всегда дорого расплачивается за свою стилистику. Мы — нация многословная и многосложная; мы — люди придаточного предложения, завихряющихся прилагательных. Говорящий кратко, тем более — кратко пишущий, обескураживает и как бы компрометирует словесную нашу избыточность. Собеседник, отношения с людьми вообще начинают восприниматься балластом, мертвым грузом — и сам собеседник первый, кто это чувствует. Даже если он и настраивается на вашу частоту, хватает его ненадолго».
К Битову сказанное можно отнести с не меньшей степенью справедливости — с единственной оговоркой: в случае нашего автора речь, похоже, идет не о «бессознательном ощущении», а о целенаправленной установке строить прозу по законам поэзии. Дело вовсе не в том, что Битов сам пишет стихи, и даже не в том, что классическое определение «наилучшие слова в наилучшем порядке» может и до́лжно быть применимо к уважающей себя прозе. Дело в иной природе отношений между автором и порождаемым им текстом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу