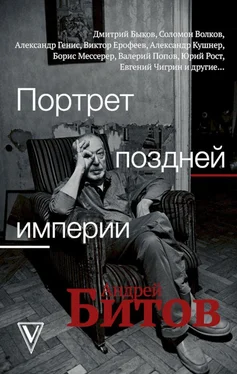Спасибо, что был с нами. Теперь стал, как в пьесе Резо, бабочкой. Неотвязно вокруг головы порхаешь. Скоро совсем улетишь — холодно бабочкам в декабре. В духе, в мысли, в памяти останешься до конца дней наших.
Царствия Небесного. 7. XII.2018
Прощание с премией, или Вместо постскриптума
Прощание изначально — штука эгоистичная. Т. е. в первую очередь ты думаешь: как же я теперь без ушедшего буду? Даже когда сокрушаешься: как же мы, мы все будем — это ведь тоже форма эгоизма, только коллективного. C момента ухода Андрея прошло достаточно времени — а большое впрямь обретает истинный масштаб только на расстоянии. Теперь уже уместно прибавить к чистому, беспримесному горю малую капельку ума.
Как ни парадоксально, опыту привыкания к отсутствию Битова я учился у самого Битова — было у нас несколько памятных разговоров о том, как он привыкал к отсутствию Бродского. Строго говоря, особенно близки они ведь не были: ан, когда Иосифа Александровича не стало, он повадился Битову сниться. О чем-то они там доспаривали, просто языками зацеплялись, не суть. Что важно: если такое случалось, Андрей Георгиевич чувствовал себя лучше, буквально свежел и молодел. Я, собственно, почему об этом вообще узнал — он ко мне как к штатному бродсковеду обращался за консультацией: «А я верно понял, что Иосиф по такому-то поводу думал так-то?..» Сознавая некую неловкость, посильно выкручивался. Но надобно сказать, что чаще всего Битов бывал снайперски точен — т. е. большая часть ситуаций недопонимания в их заочном общении с тенью ИБ сводилась к уточнению терминов, а не расхождению сущностей.
Ныне пришла грустная пора самому с Битовым во сне беседовать. Он впрямь иногда снится, и мы впрямь о чем-то разговариваем. Точнее: говорит обычно он, я благодарно внемлю. Наутро припоминается мало — но энергетической батарейкой такие сны становятся нешуточно и надолго.
Поскольку сны — материя суверенная, хрупкая, наяву со временем начинаешь как-то суммировать итоги, делать выводы из минувшей жизни, свидетелем и современником которой довелось быть на протяжении свыше четверти века. Если вдуматься, извлечение уроков из чужого опыта — не худшая форма благодарности.
Сказанное обязует к написанию обширного текста — рано или поздно, ебж, попробую оный породить. А пока навскидку, впроброс, несколько умозаключений.
Основной урок эстетический, разумеется, восходит к завороженности Битова Пушкиным. Он ведь именно за «Пушкинский дом» в святцы отечественного постмодерна угодил. По недоразумению, что ли. На деле Андрей Георгиевич — традиционалист махровейший. Закавыка в том, что постмодерн в его отечественном изводе тяготел — не хуже соцреализма — всех построить по ранжиру, вписать в табель о рангах. А Битов из этой табели выламывался. Говоря современным сетевым языком: откровенно троллил многочисленную когорту кормившихся на нем славистов. Сам отдушину обретая изначально в Александре Сергеевиче — а под конец уже во всей отечественной классике: от Ломоносова до Зощенко. Для него классика ничего общего с табелью о рангах не имела — Битов обладал дивным свойством общаться с ушедшими примерно как Мюнхгаузен в великом исполнении Янковского. Помню, сперва вусмерть заинтересовался моей нестандартной версией прочтения сонетов Шекспира — расцвел, начал включаться — а потом вдруг махнул рукой: «Это мне поздно. Уже не успею…»
Пушкинские штудии Битова уникальны, а Волга впадает известно куда. Тут важно понять, что Битова, похоже, интересовал не вопрос устья и даже не вопрос истоков: то, почему вода течет. То, как она течет. Отсюда — и фундаментальная, трудоемкая попытка дотошно восстановить в хронологическом порядке, включая буквально записки в прачечную, обстоятельства последнего года жизни Александра Сергеевича; и отсюда же — откровенно хэппенинговое, карнавальное, поразительно светлое и целомудренное открытие памятника перебежавшему дорогу Зайцу.
Для меня ключом к пониманию механизма этой взаимосвязи стало чтение Битовым вживую черновиков классика — в Питере, на роскошном праздновании 70-летия. Впечатление это производило попросту ошеломляющее — гораздо более сильное, чем в записи. Происходило все действо в Джазовой филармонии, а сопровождала его роскошная команда, собранная Володечкой Тарасовым. Чтобы не запутаться, попытаюсь разложить ощущения на несколько составляющих.
На первый взгляд (тем паче, весьма деликатно подсвеченное джазовыми виртуозами), это было чистое камлание. Андрей читал, постепенно обретая драйв; казалось, голос преображается в джазовый инструмент — при этом без малейшей декламации, актерства. Все воспринималось так, будто ты случайно подслушал внутренний монолог человека, бесконечными повторами доводящего себя едва не до исступления.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу