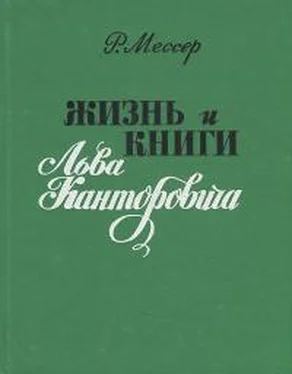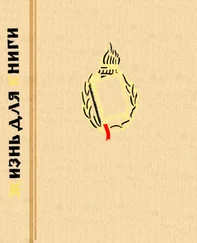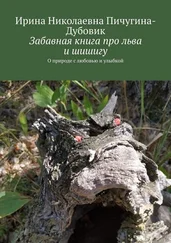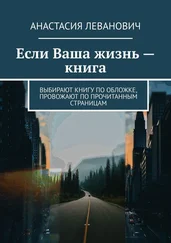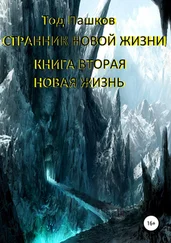Герои Канторовича шли рядом с ним. Он жил вместе с ними. Видел их незаметный героизм, бескорыстие и взаимопомощь. Видел, как они мерзли в сорокаградусные морозы, и сам замерзал. В рассказе «Раненый с высоты 166,0» описан эпизод спасения бойца Грищука. В условиях бездорожья, рискуя собой, спаситель проявил героизм и находчивость, использовал «способ транспортировки», не предусмотренный никакими инструкциями. И главное, никто так и не узнал имени спасителя.
В разных книгах писателя военные рассказы располагаются в том порядке, в каком мы рассматривали их выше. В этом отразилась и хронология событий, и, очевидно, время их написания. Первые два датированы 1939 годом, остальные 1940-м. Существенно меняются авторские задачи по раскрытию характеров героев. От отдельного эпизода («Мост наш», «Раненый с высоты 166,0») писатель шел к анализу психологического поединка с врагом («Два дня»), развернутому повествованию в рассказе «Мы наступаем в лесу». Последний рассказ, написанный, очевидно, уже после завершения финской кампании, связан с поездкой писателя на Карельский участок фронта в феврале — марте. Напечатан он был посмертно.
Всю жизнь Лев Владимирович готовил себя к будущим испытаниям. Он знал: война потребует сильных, смелых и выносливых людей. Но ясно ему было и другое: мало быть физически закаленным, победит сильный духом и мыслью. Так побеждает герой рассказа «Два дня». Он идет по следу врага день и ночь, в этой гонке обмораживает руки, но продолжает идти. Что важно дли автора? Что подчеркивает он прежде всего? Наблюдательность, выдержку, смекалку. «Он слышал малейший шорох. Он всматривался в черные пятна теней, и глаза его различали малейшие подробности. Он знал, что другой человек так же неслышно скользит по снегу и так же всматривается в темноту и прислушивается к лесным шорохам. Он знал, что другой человек подстерегает его и, уходя от него, охотится за ним».
Оба противника отлично ходят на лыжах, но здесь решает не только спортивное мастерство. Раскрывается весь ход этого — прежде всего психологического — поединка. Вот противник оступился и сошел со следа. Значит, устал. Вот он идет в другом темпе. Еще не видя противника, наш боец угадывает ту небольшую лужайку, на которую вражеский лыжник мог прыгнуть с горы. Чувства героя меняются быстро, их чередования отражены в авторской речи, напряженность повествования связана со стремительным темпом, в котором происходят события.
Весь военный цикл 1939 — 1940 годов невелик по объему. В прозе мало сказано о тех месяцах, и эти события более всего отражены в поэзии (Н. Тихонов, В. Лихарев). Вскоре началась война такого масштаба, что она заслонила прежние бои. Сказать, остался ли бы Канторович приверженцем малой формы, трудно. В его прозе наряду с лаконизмом, нелюбовью к риторике всегда ощущалось стремление психологически раскрыть ход военных действий, их перспективу, видеть движение военной мысли. Можно предположить, что, пройди он войну Отечественную, в его книгах появился бы глубокий анализ военного мышления и отразились события большого масштаба. Весной 41-го он говорил жене: «Останусь жив, напишу большую книгу о войне. Я знаю, как ее написать...»
В 60-е годы шел спор о способах отражения войны. Отголоски его слышны до сих пор. В недавней книге о В. Быкове (1980) критик И. Дедков писал: «Сквозило опасение, что «эмпирические наблюдения» над отдельным и «окопным» заслонят от героя и читателя большую правду о войне, видную лишь с более высокой точки зрения». Ход литературного развития показал, что роман-эпопея К. Симонова, повести В. Быкова, рассказы В. Богомолова и других авторов, посвященные всей войне или ее отдельным эпизодам, не должны противопоставляться друг другу, ибо все они вместе дают картину войны. Канторович умел показать войну лаконично, анализируя военное мышление, самочувствие воюющего человека. По не исключено, что он не успел написать иначе, что о другой войне он и писал бы по-другому. Ведь и масштаб происходящего имел значение.
Важно отметить, что в военном цикле Канторовича несколько особняком стоит самый большой рассказ — «Мы наступаем в лесу». Он напоминал читателю о повести «Бой», где герои рассуждают о видном военном теоретике Клаузевице. Здесь же — эпиграф из Клаузевица: «На войне все просто, но самое простое и есть самое трудное». Рассказ связан не только с этой повестью, но и со всем творчеством писателя. Он напоминает о привязанности Канторовича к Средней Азии. Даже военная страда не отодвинула память о людях, с которыми дружил писатель и его герой полковник Коршунов. К тому же н обстоятельства были таковы, что многие прошедшие военную, армейскую закалку на юге потом оказались на севере.
Читать дальше