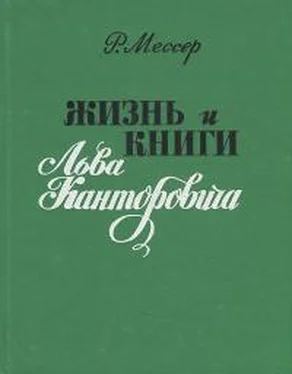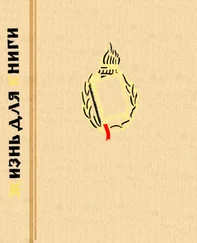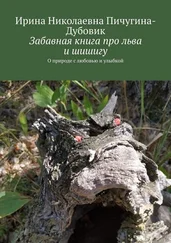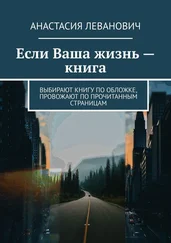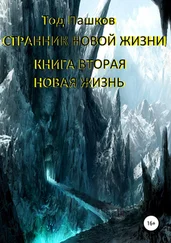Можно предположить, что цикл военных рассказов остался незавершенным. В записных книжках писателя зимы 1939—1940 годов множество набросков, зарисовок, документов. Очевидно, в глубокую психологическую повесть могла вылиться история пограничника Н. А. Зорина, чье письмо к комиссару части сохранилось в архиве писателя. По интересу к этому письму видно: Канторовича привлекали как непосредственные боевые эпизоды, так и реальные человеческие драмы военного времени. Вот текст письма красноармейца, который уснул на посту: «Если кроме бесед с комиссаром мне будет какое-нибудь наказание, то я прошу, чтобы перед тем меня допустили сражаться... Клянусь вам, что я не такой уж предатель... Я сознаюсь, что я сделал проступок, но я сделал его не нарочно, я и сам не знаю, как это получилось. Я проклинаю тот час. Я никогда не знал страха, не имел проступков. За три минуты все рухнуло. Если попаду на фронт, прошу вас перевести меня в другую роту, чтобы я мог загладить свой проступок в боях. Прошу ответить скорее. Скоро выписываюсь».
Писатель не только сохранил это письмо, написанное в госпитале. Он беседовал с комиссаром. Думал о переживаниях бойца и о том, как трудно командиру и комиссару принимать ответственные решения в суровой боевой обстановке. В данном случае у бойца драматически сочетаются чувство вины за серьезное, хотя и невольное дисциплинарное нарушение со стремлением искупить свою вину, сохранить честь советского воина.
Из записей видно, что писатель много размышлял над этим письмом, над психологической сложностью ситуаций, возникающих во фронтовой обстановке. Ведя в военных условиях боевую и политическую работу, Канторович оставался литератором, он стремился попять людей, с которыми сталкивала его судьба. Но, глубоко интересуясь отдельной конкретной личностью, живя с пограничниками общей жизнью, он вместе с тем свои впечатления фиксировал как возможные заготовки для будущих произведений о военной поре. Можно представить себе, например, письмо бойца Зорина воспроизведенным полностью без каких-либо изменений в одном из произведении военного цикла.
Пройдут годы, минует великая война, и другой писатель — Э. Казакевич — напишет повесть о бойце, проявившем слабость, а потом глубоко осознавшем свою вину, свой поступок. Конечно, прежде всего наша литература показывала героизм солдата, его самоотверженность. Она учила мужеству и воспитывала высокие чувства. Но она никогда не уходила от анализа сложных обстоятельств и переживаний. В этом смысле интерес Канторовича к письму Зорина показателен.
Свидетельств деятельности Канторовича сохранилось немного. Тем ценнее отдельные документы и материалы из его архива. Они показывают, как широко понимал Лев Владимирович задачи писателя-фронтовика. Он не только исполнял непосредственную боевую службу и писал о своих товарищах-пограничниках, вел записи, которые могли пригодиться в дальнейшем. В архиве есть написанные им тексты обращений с передовых позиций к финским солдатам. По существу, Канторович и ряд других наших писателей в ту пору стояли у истоков большой работы среди войск противника, которую называли «контрпропагандой» и которая получила широкое распространение во время войны Отечественной.
«Слушайте слова правды», — горячо взывал он к войскам противника. И рассказывал правду. О финской реакции, об офицерстве, враждебном собственному народу. «Они бессмысленно губят вас и вашу страну. Куда ведут они вас? Они продают вашу родину иностранным богачам». Писатель вел живой, свободный разговор о реальных заботах и тревогах людей. Его листовки сбрасывались с самолетов, зачитывались через радиорупора. В этих листовках, разоблачавших курс буржуазного правительства Рюти — Таннера, приводились выдержки из писем, посланных пленным финским солдатам их женами и матерями. Эти письма напоминали о жизни тыла, в них были имена погибших соседей, близких, говорилось о сиротах, о безмерных бытовых тяготах семей. Из приведенных в обращении фактов делался логический вывод о том, что «война выгодна только генералам и гитлеровцам», что рядовому финскому солдату она не нужна.
Такие выступления нельзя было назвать просто «пропагандой», отмахнуться от них. Вот почему противник пытался сорвать передачу таких обращений.
Листовки-обращения к солдатам противника — одна из граней фронтовой работы писателя. Канторович делал на фронте то, что мог, исходя из одного: приносить пользу. Ему важно было реальное значение сделанного.
Читать дальше