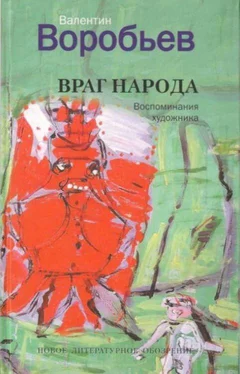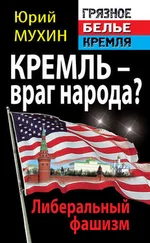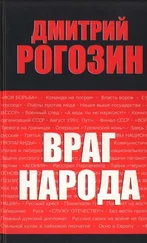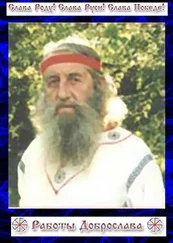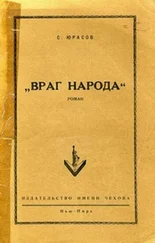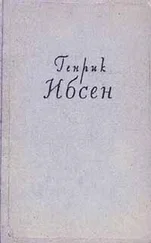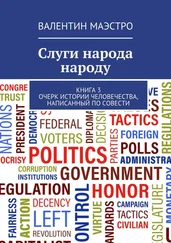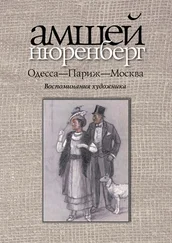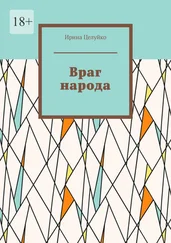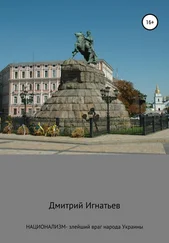Посреди комнаты стояла кучка художников в помятых, навыпуск рубашках, стриженных под бокс, громко споривших о последнем футбольном матче. Они говорили на непонятном южном жаргоне. Пылкие болельщики футбольной команды Марселя «Олимпик-Марсей» готовы были кинуться в драку, если заикнешься в пользу парижского клуба «Пари — Сен-Жермен». Банда не скрывала своего южного шовинизма, брезгливо отзываясь о столичных мудаках — «иль сон тус кон!» — попутно задевая иностранцев, якобы наводнивших Францию. Нас компьютерщик представил стриженому парню с бокалом шампанского в руках, с открытым лицом, художнику Реми Бланшару.
— Ну, как там у вас? — начал он, улыбаясь.
Я сразу смекнул, что речь идет не о ГУЛАГе, а о футболе. Его познания о составе киевского «Динамо» и московского «Спартака» оказались гораздо шире наших. Я прекратил играть в футбол в пятнадцать лет, Игора, очевидно, болел за свой ленинградский «Зенит», но за десять лет чужбины и невзгод забыл о его существовании. Он пытался перевести разговор на бегство с корабля, а наш собеседник разинул рот и смотрел на него не как на героя, прыгнувшего на свободу, а как на последнего мазохиста. Реми скис, потерял интерес к нам и улизнул к своим. Так не солоно хлебавши мы выстояли полчаса, глядя из окна на бушующий бульвар, и, как пробки, выскочили на парижский тротуар. Со стороны наше появление в обществе «ящуров» выглядело картинкой из «Крокодила». Старый дурак в вельветовом пиджаке и молодой Игора в клетчатых штанах, смущенно крутивший остатки рыжих буклей на затылке.
В строжайшем секрете «Бо Лезар» приготовил выставку для Лувра. Туда нас уже не позвали. Никто не дал дельного совета. Нас аккуратно отмели в сторонку, или, как справедливо говорит Рабин, «тебя стремятся оставить на обочине», и «какие-то носы решают в искусстве, что хорошо и что плохо».
Вот тебе и веселый Монпарнас! Вот тебе и город-космополит!
Где же Пикассо, Шагал, Кандинский?
Русские цари, посылая учиться искусству в Европу под строгим надзором «политруков», все произведения своих питомцев считали принадлежностью России, царства! Все рекорды пребывания за границей побил пенсионер Александр Андреевич Иванов. Он двадцать пять лет тянул с возвращением в ледяную столицу на Неве. Стал ли он европейским художником?
Нет, конечно! Все работы, сделанные в Италии, принадлежали России.
В первые годы советской власти художников выпускали за границу, но многие стали невозвращенцами, и баловство прекратили. С 1914 года — начало мировой войны, прикрывшей границы, — Россия не знала традиционной закупки культурных ценностей на Западе.
Долой устаревшие чудачества царей, дворян и купцов, бросавших валюту на буржуазную культуру, к черту дурацкие покупки и благотворительность богачей!
Образовался не формальный — догнать и перегнать! — а глубинный разрыв по всем параметрам культуры. Полная и необратимая нестыковка двух разных моделей человеческой цивилизации.
Критикуя Запад и демократию — «тебя стремятся оставить на обочине», — Рабин выражает исторически наболевшее у всех русских людей — за какие грехи обочина?
Разве наша вина, что мы родились в Лианозово, а не в Тулузе?
«Время, проведенное в эмиграции, кажется мне просто потерянным».
Потерялся не только Рабин, а лучшие бойцы за свободу творчества: В. Я. Ситников, Неизвестный, Лев Нуссберг, Александр Леонов, Алексей Хвостенко. Оказались не нужны ни капиталу, ни подчиненным ему «музейным носам».
Для меня остается загадкой, почему артисты русского авангарда 20-х годов — Филонов, Малевич, Татлин, Древин — считали свое буржуазное искусство по существу пролетарским?
Настоящий, кремлевский пролетариат очень быстро раскусил, что футуристы их водят за нос, пытаясь выгрести Госбанк на свои дурацкие забавы. Их упразднили по-военному. Указом. Операцией по ликвидации футуризма руководили герои Гражданской войны, бывшие шахтеры Донбасса.
Более 50 лет мы не знали о существовании Ван Гога, Пикассо и Поллока. Шаблоном художественного производства у нас был доходчивый метод семейного ремесла, представленного кучкой потомственных академистов. Славный и православный народ не нуждался в плюрализме сумасшедших маргиналов и недоучек. Музеи никто не строил, о коммерческих галереях мы не слышали.
В газете «Сегодня» появилась заметка, обойти которую невозможно:
«У нас нет денег для латания дыр в крыше Третьяковки, из которых льется вода в экспозиционные залы, а в Русском музее сыплется штукатурка на картины Врубеля!»
Читать дальше