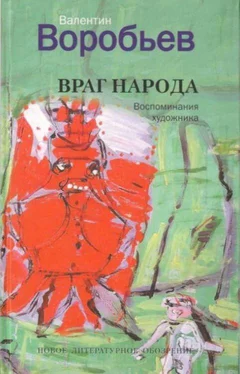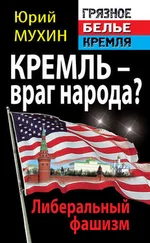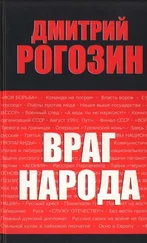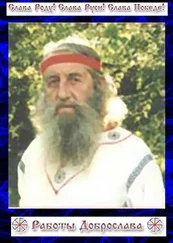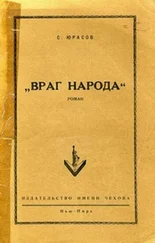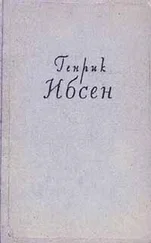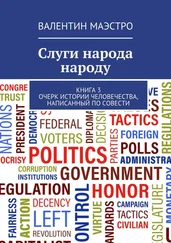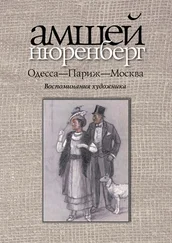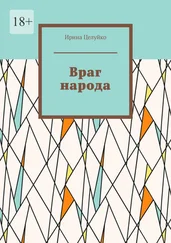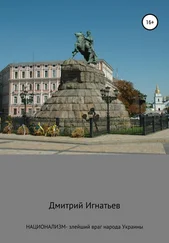В наше время, когда культуры всех народов сошлись вместе за одним столом, необходима безмятежность духа и личный ход в творчестве, чтобы оставить кирпич в мировой эстетике, но Наталья Селиванова жила под гипнозом «Святой Руси», несправедливо обиженной капиталом.
Семиметровое дубовое бревно с металлической болванкой упиралось в крышу галереи. Этот столб был обнесен свинцовыми щитами, раскрашенными синей краской, где то и дело мелькали крестообразные зигзаги. По углам помещения радиопередатчики выдавали григорианские распевы. Этот «фалл», названный артистами «Копье Вотана», напоминал зарвавшимся музейным работникам о существовании могучего нордического наследства России.
Такой наглядной и открытой пропаганды фашизма я еще не видел.
Авторы инсталляции — Молодкин и Беляев.
Я очень сомневаюсь, чтобы Селиванова заработала на показе «Копья Вотана», провоцирующего национальную паранойю красно-коричневых. На вернисаж я не пришел, постыдился. В прессе вышла статейка в модном журнале «Нова». Рецензия снабжалась кружочком, символом французских шовинистов «национального фронта». Эти сразу нашли друг друга.
Не надо было быть проницательным мудрецом, чтобы догадаться — большой капитал на выставку не придет.
Наталья Селиванова угробила большие деньги на установку «русского фалла». Сторож Гога сбежал в Москву. «Фалл» разобрали по частям и выбросили на помойку. Металлические росписи забрали Беляев и Молодкин. Галерею прикрыли на первом представлении. Культ «Вотана» не прижился в развращенной столице Франции. Слабосилие и духовная порча лезли из московских молодчиков, как ржавые гвозди из авоськи. Инсталляция нацистов походила на наглядное пособие для начинающих психиатров.
Апофеоз национальной шизофрении!
И — слабый член предложения.
* * *
Зачем я рисую? Тянет! На мрачные и веселые картинки.
«А у нас в Тарусе!..»
Дурак святого искусства. Особые принципы. Любительский русский кружок.
Мое прямое знакомство с западной культурой началось с удручающего открытия — в лучших музейных собраниях Европы я не обнаружил русского присутствия, ни достижений русской иконы, ни экспериментов нового времени. Царь Петр I прорубил окно в Европу, но не все поставил по своим местам. Если в фойе музеев попадались географические карты, то все жилое, огромное пространство на восток от Дуная обозначалось белым пятном неизвестной и темной цивилизации, мертвой исторической зоной без признаков высокой культуры.
Русские артисты, независимо от их местожительства и этнической принадлежности, при дележке мировой славы не получили места по достоинству. Не ищите Дионисия или Прохора из Городца на стенах Лувра или Прадо. Иконников Запад не приобретал и искусством не считал. Может быть, «пившие из своего стакана» Суриков, Врубель, Филонов, Татлин, Родченко висят в западных музеях?
Их нигде нет!
Галереи, которые я считал «своими», как сверчок свой шесток, с поразительным легкомыслием гнали меня в шею, навязывая первый попавшийся на язык ярлык — «подражание Леже», хотя при самом беглом осмотре невозможно обнаружить следов этой знаменитости в моих работах.
Сделав не менее десяти заходов в «свои» магазины, когда служащие и хозяева охотно брали картины для просмотра, — в Америке, по словам Нуссберга, такой пещерный способ отношений давно ликвидирован, и посылается только «досье» по почте и с рекомендательным письмом! — я сделал решительное заключение — французом мне не быть! Если мне повезет, я могу стать богачом, но французом никогда!
Та же участь ждала и моих многочисленных земляков и коллег. Никто не смог навязать свое искусство западным музеям.
26 февраля 1998 года консервативная и прочная «Культура» опубликовала любопытный разговор артдилера А. Д. Глезера с художником О. Я. Рабиным, сознательно выделив в заголовок удобную ей фразу: «Демократия — зло для творчества», давая понять читателю, что империя и коммунизм были большим благом для творчества. Как будто Романовы покупали Кандинского, а товарищ Сталин — Казимира Малевича.
Скептическое настроение Оскара Рабина меня совсем не удивило.
Он не живописец современной американской школы, а «лианозовский» художник. («А у нас в Лианозово!» — О. Р.) Журналист искусства в традиции критического реализма прошлого века.
В советской России за анекдот сажали в тюрьму. Навязать Западу русский анекдот лианозовского производства ему не удалось Постоянное повторение Рабина «а у нас в Лианозово!», конечно, ничего, кроме горькой усмешки, не вызывает.
Читать дальше