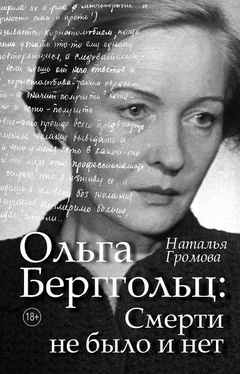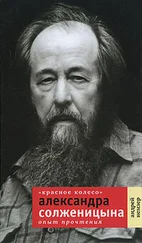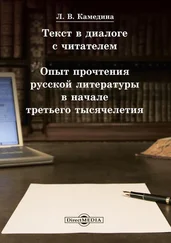И вот – даже дома нет. Там мое место – среди каторжан. Напиваюсь к вечеру. Скандал".
Ей грозят исключением из партии за "бытовое разложение". Она отбивается:
"Последние события, – партколлегия, привлекшая якобы за "недостойное поведение" – за пьянство, с подъемом всего 37–39 гг. "упаднического творчества" и т. д. с доносами … наконец, сентябрь 52 г., когда я вошла в страшнейший запой, и этот звонок, анонимный, правда, когда мне сообщили, что у Юры любовница, и занесение меня в черные списки перед съездом, и Юрина декларация, – "как женщина, ты мне давно противна, я себя искусственно настраивал (как будто бы я сама этого не замечала!). Хочешь вешаться – вешайся. Исключат – пусть исключают. Посадят – пусть сажают. Я на тебя насрал"".
Когда Ольга абсолютно теряет контроль над собой, ей на помощь приходит мать.
О том, что творится у дочери дома, Мария Тимофеевна пишет Ирэне Гурской:
"3/XII 54 г. Сейчас пришла от Ольги. Ирена дорогая, мне кажется, что и я заболеваю! Что творится! Прихожу к Ольге. Макогоненко дома нет. Вхожу в ее комнату. Лежит она на постели и, свесив голову, шарит рукой около постели. И спрашивает домработницу слабым пьяным голосом: – Зина, а мое тут стоит? – Да, да стоит около вас, – отвечает домработница. Я подхожу и вижу, стоит большая бутылка коньяку, в бутылке уже немного. Это уход за ней дома такой. Чтобы она не ушла. Так две домработницы и говорят: "Хозяин уходит, только так ее и успокаиваем". Я знаю много случаев, что так делалось и по его распоряжению… Ведь ее запой это не распутство, а тяжкая болезнь, и без врачебной помощи она погибнет".
Мать во всем винит Макогоненко, считая, что тот бросил Ольгу на руки домработниц, которые "усыпляют" ее очередной порцией коньяка – чтобы спала все дни напролет. Но Макогоненко и сам не знал, что с Ольгой делать. У него уже шла своя – параллельная – жизнь. Жена тяготила его, и он давно искал способ, как "прилично" уйти от нее, в глазах общественности оставаясь "страдальцем".
А Мария Тимофеевна изливала душу Ирэне Гурской:
"6–7/XII … Ляля стала спокойнее. Мы сидели у Андрея в комнате, разговаривали. Потом она сказала: – Мама, приходи ко мне в комнату. Она посадила меня рядом с собою на диван, мы стали разговаривать. И смотрю, что же это делается с Лялей. Она начинает говорить медленно, потом глаза ее затуманились, и она засыпает. Подошла домработница и говорит: "Ол. Фед., пойдемте лягте полежите, а М.Т. с вами там поговорит", – довела ее до кровати. И Ляля сразу уснула.
Спрашиваю: "Чего вы ей дали?" – "Коньяк". – "Где взяли?" – "Принесла". – "Зачем опять напоили?" – "Пусть спит, а то уйдет". И представь, Ирэна, говорит мне: "Надо вам к этому привыкнуть, т. к. ничего уже поделать нельзя…" Это она мне и еще со смехом.
Проснулась она вечером около 9 часов, была ничего, но все-таки плохо, отечное лицо ужасно. Сидели в кабинете, разговаривали. Она захотела показать мне газету "Смена" с ее снимком. Стали искать. – "Поищи, мама, у Юры вон в тех газетах". И пошла в свою комнату, а когда я пришла, она на постели опьяневшая и домработница… Ирэна, дорогая моя, если бы я была истерзана физически, то, наверное, страдала бы меньше, чем сейчас истерзанной душой. Пойми мой ужас, гибнет дочь. И вот я убедилась тогда, когда она доведена уже до ужасного состояния. Вот почему меня гнали из дома, почему требовали звонить им и не приезжать без разрешения. Вот почему обманывали меня по телефону, когда было плохо, а мне говорили, что хорошо. А оказывается, это тянется с первого дня, как они приехали из Москвы из больницы. Она не виновата в том, что с ней творится. Вот так подготовлял он Ольгу к съезду писателей. Можно ли допустить мысль, что он не понимает, что делает? И не знает, что надо делать?
Нет, он знает, все знает.
Вот собираются ехать в Москву. На такой съезд. А у нее такое состояние, что она дошла (доведена) до предела, когда уже не в силах самой остановиться, не пить. Она и рыдала у меня на груди со словами "Мама, я погибаю и погибну, мне уже не остановиться".
Ведь уже много доказано, что только больница восстанавливала Ольге нормальное состояние здоровья. Никакого нет оправдания, что, вместо того чтобы обратиться к врачам, дома только поят ее коньяком… Мало надеюсь, что Ольга попадет на съезд, больше всего боюсь, что оскандалится".
После съезда ей удается положить Ольгу в больницу. Но и это не спасает – Ольгины погружения в мир забвения становились все более продолжительными.
Конечно, немало писателей тяжело пили. Пил Фадеев и Твардовский, Луговской и Светлов, Смеляков, Яшин, Антокольский, Давид Самойлов и Глазков. Военное поколение научилось пить на войне, военные сто грамм были романтизированы и опоэтизированы. Но после войны пьянство стало для многих единственной формой бегства от укоров совести и постоянного страха. Одним из таких был Фадеев.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу