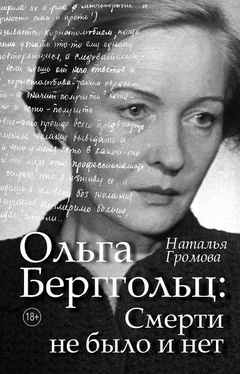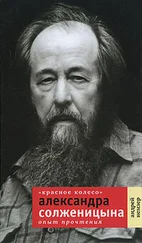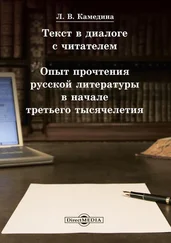– Когда-нибудь всех спросят, – говорила Ольга, – а что вы делали в начале пятидесятых? Я отвечу, что пила. И многие захотят со мной поменяться биографией.
Михаил Рабинович. Воспоминания долгой жизни
Вряд ли кто-нибудь мог рассказать о причинах болезни и невозможности излечения откровеннее, чем сама Ольга. Она написала об этом и в дневниках, и в большой автобиографии, подготовленной по просьбе лечащего врача Я. Шрайбера.
"…С октября 1951 года усиленно лечусь – вернее, лечат меня от хронического алкоголизма. С тех пор, как стали лечить, – стала пить все хуже и хуже. Когда первый раз пришла на ул. Радио ("товарищи уговорили"), – задохнулась от смертной обиды: махонькие палаты, все выходы под замками и есть можно только оловянной ложкой – совсем как в тюрьме, на Шпалерке, в 1938–39 гг. Так вот для чего все было – Колина смерть, дикое мужество блокады, стихи о ней, Колиной смерти, Юриной любви, о страшном подвиге Ленинграда, – вот для чего все было – чтоб оказаться здесь, чтоб заперли здесь, всучили оловянную – ту же ложку и посадили над той же страшной кашей, как в тюрьме. А я-то мучилась, мужалась, писала, отдавала сердце и, чтоб заглушить терзания совести и ревности, – пила (только от этого и пила), – оказывается, у жизни один для меня ответ: тюрьма. Не можешь подличать, мириться с ложью, горит душа – полезай в тюрьму. Очень помню ощущение тех дней. А лечили "по павловскому методу", "выработкой условных рефлексов" – рвотой, апоморфином. Каждый день впрыскивали апоморфин, давали понюхать водки и выпить, и потом меня отвратительно, мучительно рвало".
Попытки "ухода от своей лживости" случались и у ее собратьев по перу, и каждый из них мог высказать в пьяном виде подобные мысли, но никто не делал это с такой беспощадностью и страстью.
"…А внутри все голосило от бешеного протеста: как?! Так я вам и выблюю в ведро все, что заставило меня пить? И утрату детей и самой надежды на материнство, и незаживающую рану тюрьмы, и обиды за народ, и Николая, и сумасшедший дом, где он погиб, и невозможность говорить правду, и сомнения в Юрке (уже знала об его пошлейшей измене в 1949 году, и очень это болело), – и вот все так и остается кругом, и вы думаете, что если я месяц поблюю, то все это во мне перестанет болеть и требовать забвения? Ну, куда же денется эта страшная, лживая, бесперспективная жизнь, которой мы живем, которой не видно никакого конца? Как же мне перестать реагировать на нее? Кем же мне стать? Ничего, кроме отвращения к человеческой тупости, ощущения какого-то бездонного расхождения с обществом, – конкретно, с "лечащими" меня людьми, – сестрой, приятелями, частично с мужем, – это "лечение" мне не принесло. И еще – глубокую грусть: оттого, что никак не объяснить им, что лечить меня от алкоголизма – не надо. Не объяснить по странной стыдливости и потому, что все равно не поверят и не поймут. Хотя я и пыталась. Муська, очень любящая меня, кричала: "Я не могу для тебя изменить государственную систему". А в ней-то главное дело и было. "Я хочу быть в мире с моей страной", – и было почти невозможно. Видит бог, как я пыталась быть с ней в мире, – хотя бы, не закрывая глаз на Волго-Дон, пытаясь писать о том свете, который в нем заключался, – о людском бессмертном труде. Но каторга оставалась каторгой, и вся страна и физически и духовно (о, особенно духовно!) была такой, и не только мирясь, но и славя ее, я лгала, и знала, что я лгу, и мне никогда было не уйти от сознания своей лживости, – даже в водку. И в водке это сознание достигало острейшего предела, пока не потухало сознание общее".
В какой-то момент у нее начинается настоящая белая горячка.
Сперва она пыталась спастись сама, когда жила в Москве у Муси.
"На Сивцевом было то же: взгляну на стену – там за решеткой в камере заключенный. Пошла в сортир, – села, – гляжу, возле самого носа в стене, – дыра, зарешеченная, а там человек в цепях, – контурный, светящийся. Но все же не покидает критика, – опыт волжского галлюциноза и учеба у бело-горячечников на ул. Радио помогают. Требую от Муськи пол-литра, пью и рассказываю ей, рассказываю, – о каторге, о том, что мерещится – молчу. Хитрая. Потом – огромная доза снотворного, – сплю, "купирую" начинающуюся белую горячку, – сама купирую. И все же на другой день, хоть и хожу в "Литературку", и вселяюсь в гостиницу, – пью, хоть и поменьше, и в состоянии абстиненции приезжаю в Ленинград. За завтраком оба немного пьем, рассказываю Юре. Он, видимо, тронут, но – "маленькая, сейчас ко мне придет Смолян [126] По-видимому, сотрудник по работе в ЛГУ.
, а завтра ты поезжай в Солнечное к Андрюше [127] Андрей, сын Макогоненко от первого брака.
". – "Я хочу побыть дома…" – "Нет, нет, поезжай, а то я сам поеду". Ну – всё ясно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу