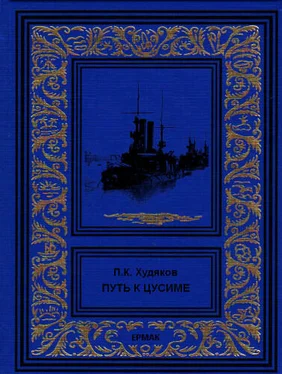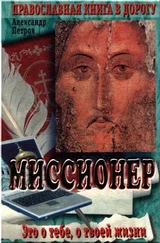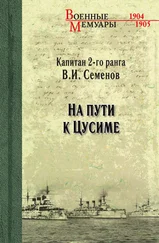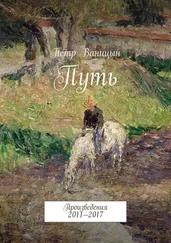Подсудимые Небогатов, Смирнов, Григорьев являются безусловно виновными.
Командовавший броненосцем "Орел" кап. 2 ранга Шведе не мог не видеть, что приказ адмирала преступен, и тем не менее он принял его. Совета офицеров кап. Шведе не собрал. Конечно он виновен, но нельзя не признать, что "Орел" находился в условиях неизмеримо худших, чем другие броненосцы.
Из остальных офицеров, обвиняемых за соучастие в сдаче, первенствующее место принадлежит офицерам флота, а следующее офицерам корпусов. Из первых имеются основания к предъявлению обвинения лишь следующим офицерам: 1) кап. 2-го ранга Кроссу (начальник штаба); 2) лейт. Глазову (флаг-оф. адмирала); 3) лейт. Хоментовскому (минный оф. "Николая I") кап, 2-го ранга Артшвагер (ст. оф. "Сенявина").
Некоторые еще менее значительные данные имеются для предъявления обвинения к пяти офицерам (лейт. Северин, Сергеев, кап. 2-го ранга Ведерников, лейт. Макаров и Фридовский). Эти, не содействуя сдаче, по-видимому на нее согласились.
Остальные офицеры, по мнению прокурора, не могут быть обвиняемы в соучастии в сдаче.
Приговор суда, по заключительным словам прокурора, не только решит участь подсудимых, но и покажет, вправе ли воин, прикрываясь принципами человеколюбия, отступать малодушно от тех начал, что всегда считались жизненными принципами войска.
Размер наказания не важен. Важно слово осуждения, которое не дало бы виновным выйти из суда с гордо поднятой головой и заставило бы офицеров поглубже вникнуть в задачи войска и воспитать в себе чувства долга.
* * *
Затем следовали речи защитников. В речи прис. пов. Базунова, который защищал Небогатова, отметим следующие места:
"Из всех свидетелей на суде только один адм. Рожественский заметил, что наш флот был вовсе не так дурен, как об этом думают. Однако и он не отрицал, что во время учений ни одна из пушек не пробивала щитов на расстоянии 15 кабельт.; а на такое расстояние Японцы не подпускали вас к себе… Г-н прокурор указывает, что Небогатов сдал суда без боя; но он не считает ни во что день 14 мая, весь проведенный в бою, не считает удачного отражения минных атак в ночь на 15-е мая. Это все было одно сражение , начавшееся 14-го, продолжавшееся ночью и возобновившееся 15-го… Долг начальника предотвратить гибель тысячи жизней, если гибель эта никому не нужна, если борьба невозможна и бесполезна. Команда, за спасение ее от бесцельной смерти, хотела поднести адмиралу адрес, но он был остановлен, хотя 800 подписей было уже собрано… Если бы погибли корабли Небогатова, сам адмирал и его экипаж, и это не спасло бы чести России. Японцы, весь мир уже убедились, что наши пушки безвредны врагам, что ваши снаряды не опасны для их кораблей, что наши бронированные суда горят в бою, как крестьянские избы, и весь героизм наш сводится к пассивной, бесславной смерти"…
* * *
Второй защитник Небогатова прис. пов. Квашнин-Самарин в своей речи выразил следующие мысли:
"План Небогатова 15 мая 1905 г. был простой, — во что бы то ни стало скрыться в тумане. Он не знал, что в бою 14-го мая ранен Рожественский, умер Фелькерзам, ушел Энквист, что русский флот уже более не существует и его собственные суда таким образом обречены на верную гибель. Что мог знать Небогатов, не имевший в своем распоряжении разведочного отряда? Вы, господа судьи, хорошо понимаете, что, знай он все это, он сумел бы для своих судов найти почетное кладбище в Японском море. Посылка третьей и даже 2-й эскадры есть не более, как авантюра . Только на заре истории в юности своей народ, когда ему недостает опыта, устремляется в рискованные предприятия. Поход Рожественского и Небогатова — это вторая молодость , которую пережил русский народ. Г-н прокурор выразил сомнение, что Небогатов руководился исключительно желанием спасти 2,000 человек от бесполезной и мучительной смерти; я же полагаю, что этот мотив был единственным, и что справедливо сам прокурор свои предположения называет догадками . Вообще его взгляд на участие Небогатова в этом деле следующий. Россия накопила много славы, и слава эта накопилась на исключительной черте русского солдата — его полной готовности умереть; и он не изменил своим традициям и в этот раз, он покорно шел на бойню ; но Небогатов не допустил этого бессмысленного убийства. Он протестовал; и по моему мнению, это должен был сделать всякий военачальник, в котором бьется честное сердце. Сдача — позор, — твердили печать, правящие лица и официальная Россия. Позор — Цусима, занесет в свои скрижали история. Цусима шире 15-го мая. Она, гг. судьи, началась не 14-го мая 1905 г.; она началась в тот момент, когда на безмолвии народном, дерзко попирая народные блага, воцарились те эгоистические принципы, которые, как вихрь, смели народное благосостояние и расхитили народную славу. До сих пор Россия побеждала, благодаря мужеству русского солдата, его непоколебимой верности своему долгу, способности его жертвовать собой, его выносливости и геройству. Все это осталось за русским солдатом и теперь, но мы забыли отличительную особенность современных способов войны, где личное геройство отступает на задний план, а главное место занимают культура народа, его техника и машины. Мы дорого поплатились за незнание этого и свою забывчивость. Небогатов, сознавая, что идет не в бой, а на бойню, поступил так именно, как ему и следовало поступить; он не смел поступить иначе… От Небогатова требуют героизма большего, чем от простого солдата, так как он — адмирал эскадры. Но бойня не родит героев, и вдохновляться ему было нечем".
Читать дальше