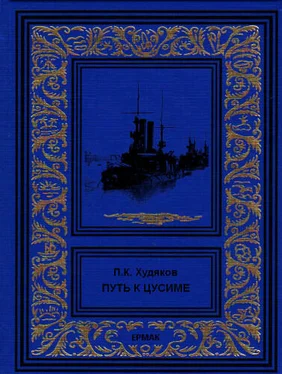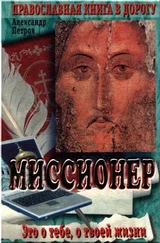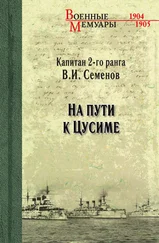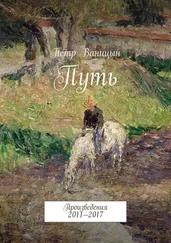В обвинительной речи г. Небогатов услыхал обвинение, которого не предъявлялось ему ни на предварительном следствии, ни в обвинительном акте: ответственность за гибель "Сисоя", "Нахимова", "Наварина" и пр. Да ведь он не считал себя командующим остатками русского флота, он не знал ничего об адм. Рожественском, кроме приказания "идти во Владивосток".
При сдаче судов шифры, документы, флаги были уничтожены. Полное уважение офицеров и команды осталось за адм. Небогатовым. Напрасно думать, что нижние чины эскадры сохранили доброе отношение к Небогатову только потому, что он разделил с ними общее несчастье: лишение воинского звания. Г. Небогатов исключен был со службы 22 августа, а нижние чины 26 сентября 1905 года. Но и гораздо позже от них это скрывали, так как в плену при слухах о лишении их воинского звания матросы волновались. В январе 1906 г. на телеграмму лейт. Белавенца о волнении команды вследствие этого слуха, переданного каким-то "судейским капитаном", ген. Данилов, заведовавший эвакуацией пленных, успокоительно ответил, советуя "больше верить русскому генералу, чем судейскому капитану".
Прис. пов. Маргулиес вспоминает затем известное письмо (в декабре 1904 г.) адм. Бирилева о второй эскадре. "Что такое вторая эскадра? Это огромная, хорошо сформированная и укомплектованная сила, равная с силами японского флота и имеющая все шансы на полный успех, — писал адм. Бирилев; — умный, твердый, бравый и настойчивый начальник этой эскадры не прикроется никакими инструкциями, а пойдет, и уничтожит врага. Он не будет подыскивать коэффициент сил, а примет наш русский коэффициент, что сила не в силе, а в решимости" и т. д. Итак, снабдив флот русским коэффициентом в лице Рожественского и не дав из экономии снарядов, отправили на гибель в Японское море 12,000 чел. и десятки судов…
Небогатов узнал в Японии, что он исключен из службы и немедленно приехал в Россию, чтобы бороться за свою поруганную честь. Г-н обвинитель предложил суду не отнимать жизни у Небогатова на том основании, что до сих пор никогда в аналогичных положениях ее не отнимали у виновных. Но никогда обвиняемый и не находился в таких условиях, как Небогатов.
* * *
Отметим затем речь Карабчевского. Защищая капитана 2-го ранга Ведерникова (ст. оф. брон. "Николай I"), прис. пов. Карабчевский говорил о всех офицерах сдавшейся эскадры, начиная с бывшего адмирала, так как, по мнению защитника, выделить кого-либо из этого дела невозможно.
Несмотря на множество доказательств того, что эскадра адм. Небогатова поставлена была в необходимость сдаться, самое событие сдачи все-таки налицо; и это слово "сдались!" как бы там ни было, звучит обидой и позором. Заключительный акт великой драмы, картинами которой были Тюренчен, Лаоян, П.-Артур и Мукден, последняя отчаянная ставка проигравшегося игрока, сдача небогатовской эскадры явилась для России тем ударом судьбы, который заставляет против воли оглянуться на себя. След этого удара навсегда сохранит униженная и оскорбленная Родина, но виновны ли те, кто были так сказать посредниками при передаче этого удара? Для государства сдача позорна всегда, для сдающихся — лишь в тех случаях, когда она производится по соображениям корысти, трусости или в нарушение как бы договора между сдающимися и государством. Под Севастополем артиллерийский офицер, который не мог по нервности перенести без поклона падения или полета вблизи него снаряда, до конца доблестно исполнил свой долг, подбадривая себя, как только слышал звук летящего снаряда: "нет, ты стой, такой-сякой, двадцать лет получал жалованье, так теперь стой!". Вот вкратце существо договорных отношений. Исполнены ли они офицерами 3-й эскадры? Несомненно. Припекаемые тропическим солнцем, поджариваемые котлами старых броненосцев, офицеры не щадили себя, совершая беспримерный по трудности переход. Переходу Рожественского изумлялся мир; разве Небогатов не сделал того же с гораздо худшими средствами? Что касается работы офицеров, то, не говоря о прочем, достаточно вспомнить одну погрузку угля. Нет, договор с правительством и государством был исполнен, — тем более, что шли без малейшей надежды на успех . Если так, если шли с единственной целью погибнуть в Японском море, была ли тут трусость? А бой накануне сдачи, безнадежный опять-таки бой ввиду гибели сильнейших наших судов? Нет, трусости в этой сдаче тоже не было… Была ли тут корысть? Но кому, какая, в каком размере? Механики и артиллеристы утешаются, что напустили соленой воды в котлы и налили кислоты в каналы орудий сдавшихся судов, — пусть! Южная часть Сахалина и суммы, "уплаченные за содержание русских пленных", вот корыстная сторона русско-японской войны, а не какое-то там ничтожество. He мог также этот старый хлам в виде сдавшейся эскадры усилить японский флот: он без подобных приобретений усилился. Итак, не корыстная, не трусливая, не нарушившая договорных отношений с государством , сдача 3-й эскадры не должна быть считаема позорной для тех, кто сдался, как бы ни была она горька Родине. Напрасно приводить петровские законы, требующие за сдачу смертной казни. Если бы жил теперь Петр I, то прежде всего, конечно, такой "истории", как Цусима, не случилось бы: и вторая, и третья тихоокеанские эскадры были бы посланы куда-нибудь недалеко с целью демонстрации, положим, при заключении мира, но не для сражения; за отсутствием снаряжения они его вести не могли. А если бы сверх ожидания случилась все-таки такая "история", то великий преобразователь сумел бы найти истинных ее виновников и стер бы с лица земли… Либаву, отправившую в бой подобные эскадры с не рвущимися снарядами и фальшивыми дальномерами. Что было делать адм. Небогатову, когда он увидал себя окруженным? Сдаться, более ничего. Нельзя, конечно, забыть небогатовской сдачи, но простить ее Родина должна тем, кто невольно принял в ней участие.
Читать дальше